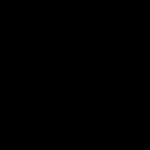Восточная ориентация русской культуры
Евразийский анализ позволяет сделать заключение, что в древний период русской истории литературно одаренному человеку достаточно находиться в потоке Традиции, и тогда не возникало проблем с выбором художественной формы, рождающейся в высшей степени естественно и органично. Иное дело — кризисные, поворотные, моменты историй, когда Традиция начинает разрушаться, и литератор, который придерживается именно старых эстетических канонов, рискует оказаться непонятым. Именно этой проблеме посвящена статья Д.П.Святополка-Мирского «О московской литературе и протопопе Аввакуме». Автор справедливо отмечает, что Аввакум и его сподвижники Неронов и Вонифатьев «были правщиками книг и обличителями господствующих настроений, восстановителями добрых и обличителями дурных вкоренившихся обычаев, прежде чем стали на защиту старого против исправлений и новшеств Никона» [40]. Статья опровергает ходульное мнение об Аввакуме как о законченном ретрограде, способном лишь отстаивать прошлое, и выходит на проблему истинного традиционализма, который всегда почитает «начало обновления» и «начало охранения». Аввакум предстает создателем нового литературного языка и нового «языкотворческого стиля», сумевшего ввести в славянский книжный язык московские живые разговорные элементы. Подобный синтез выглядит у него естественным, органичным, лишенным намеренной стилизации в отличие от многих других, более поздних, попыток вроде эксперимента «натуральной школы» в ХIХ веке, когда живая «народная» речь, в основном в диалоговой форме, «вкраплялась» в литературу искусственно. Парадокс, открытый евразийцами, состоит в том, что подлинный охранитель сути духовной Традиции не может выполнять свою миссию в переходную эпоху, не обновляя литературную форму изложения, или, по крайней мере, языковую сферу.
Иначе реагирует на предкризисные и кризисные периоды истории литература, отошедшая от национальных основ и религиозно-духовных традиций. Статья Д.П.Святополка-Мирского «Веяние смерти в предреволюционной литературе» интересна не только своей попыткой «рассчитаться с «европейским» соблазном русской литературы и анализом феномена «исторической смерти», назревавшей в культурной формаций петербургской России и отраженной словесностью, но и стремлением на литературном материале утвердить евразийскую идею разделенности отечественной культуры на два этажа, нижний из которых занимали «чеховские либералы», а верхний — «утонченные декадентские дворяне». В точности так же, как непримиримые враги — царская бюрократия и революционеры — с двух сторон рыли яму государственному монархическому строю, два противоположных лагеря — упомянутые «либералы» и «дворяне» — синхронно подтачивали древо национальной культуры и духовности. В результате большинство литераторов, даже лучшие из них, в силу разрыва с верой и национальной почвой не смогли противостоять этому «веянию смерти» — естественной реакции чуткого художественного сознания на тяжкий исторический недуг западопоклонничества. П.Сувчинский дал следующую картину предреволюционной культурной жизни: «Жизнь (...) начала питать те течения и настроения, которые рвали в сторону или же «подрывали основы». Это создавало ту гнетущую атмосферу безысходности и озлобления, скуки и страха, в которой сложились самые мрачные и оправданные пророчества о русском будущем; в этой же атмосфере зародились Чехов, Андреев и Блок, «Конь бледный» Ропшина и «Петербург» Белого (...). Насколько помрачено было русское предреволюционное патриотическое сознание, можно судить не только по злобствованию и предательству открытых врагов России — вырождение подлинного чувства родины сказалось и в русском творчестве (ярче всего у Блока и Белого), как будто исполненном любви и страсти к России, но в котором надвигающаяся катастрофа, проводимые бедствия и ужасы становились имманентными исключительно личной судьбе каждого автора и вызывали к себе с их стороны мучительную «радость страдания», почти садистические рефлексии, эгоистическую жажду гибели и распада, а не волевое противление грядущему бедствию» [41].
Преодоление кризиса и раскола русской культуры евразийцы видели в возрождении начал патриотизма и героизма, соединяющих два этажа в единое высокое целое. Образцами и примерами подобного патриотического героизма они считали творческие достижения Н.Гумилева, Б.Пастернака и М.Цветаевой.
Куда более перспективным и спасительным для словесности представлялся евразийцам путь Н.Лескова, одного из самых неевропейских, по их мнению, русских писателей в самом европейском ХIХ веке, сумевшего противостоять в творчестве тенденциям своей эпохи. Тайну лесковской уникальности П.Сувчинский в своей статье «Знамение былого» усматривает в его народности, являющей собой органический сплав художественных и духовных исканий. Там, где писатель уступал веку (прежде всего в своих романах, к наиболее неудачным, среди которых критик, на наш взгляд, не совсем основательно отнес «Некуда», «На ножах», «Обойденные»), он терпел некоторое художественное поражение. Там, где он оставался верен традиционным национальным основам и стремился развить их через языковое и стилистическое творчество, его ждала большая писательская удача. Критик приходит к выводу, что «истинная мистика и магия» лесковских произведений — в соединении реализма, со всей его яркой конкретностью, и чудесной «сказочности», восходящей к тому единству духа и плоти, которым отмечены жития и апокрифы, и которое критик называет «иконностью». Народность Н.Лескова в евразийском видении проявляется в «напряженной действительности» и «событийности» его произведений, отвечающей «напряженной действенности» русского национального характера и русской истории, насыщенной глубокой «событийностью». Лесковские легендарные характеры — это одновременно исторические и неисторические, «вечные» психологические типы, в своем фанатизме и даже изуверстве наполненные волей к жизни, без которой в принципе невозможно сделать усилие души и прийти к единственно спасительному русскому пути — «подвигу» и «праведности». «Праведность» творчества писателя, глубоко народного как в смысле тяготения к национальной языковой импровизации, так и в смысле воссоздаваемых им неистовых и цельных народных характеров, есть выражение праведности России, величественного «Государства Правды», рассвет которого евразийцы считали близким и неизбежным. В исканиях Н.Лескова, вплотную подошедшего к освоению опыта житийной и апокрифической литературы, критик видит тот спасительный выход, в направлении которого должна постепенно двигаться отечественная литература. Линия Н.С.Лескова, глубоко бытийная, онтологическая и магистральная, по сути противоположная бытописательской периферийной линии А.Н.Островского, М.Е.Салтыкова-Щедрина, А.Ф.Писемского, П.И.Мельникова-Печерского, в XX веке практически обрывается. Евразийцы ститали, что один лишь А.М.Ремизов, и то, в основном, внешне, в какой-то мере восстановил лесковскую традицию.
Один из центральных, волнующих евразийцев вопросов — художническое переживание самой близкой к ним и самой страшной революции. Статья П.Сувчинского о А.Блоке «Типы творчества» важна своей попыткой вскрыть взаимоотношения личности художника и той исторической стихии, которую он пропускает через себя в произведениях, и от жестоких ударов которой ему порой приходится защищаться. Не менее интересна также проводимая параллель между скачущим Медным Всадником А.Пушкина и летящей Степной Кобылицей А.Блока как образами «русской стихийной революции», надвигающейся на страну. Хотя в первом образе речь идет о революции, проводимой сверху, а во втором — больше снизу, оба эти вихря способны разрушить хрупкий внутренний мир поэта. Потому так важна крепость творческой воли художника. И если А.Пушкин, переживавший драматические события невского наводнения и вообще Петровского периода по прошествии длительного времени, сумел противостоять разрушительному вихрю истории и как бы заклясть его («Красуйся ж град Петров и стой неколебимо, как Россия. Да примирится же с тобой и побежденная стихия ...»), то А.Блок, которого трагедия коснулась лично, не устоял и художнически, изменив в последней поэме высшей божественной правде и гармонии. Удивительно, что скептически оценивая перспективы линии А.Блока в отечественной литературе по причине слишком сильной внутренней принадлежности поэта к породившей его близкой больной эпохе, евразийцы не увидели в нем своего союзника и нигде всерьез не проанализировали его поэтический манифест евразийского единения — «Скифы». Гораздо удачнее это сделал оппонент евразийства Георгий Федотов в статье «На поле Куликовом», вышедшей в парижских «Современных записках» в 1927 году.
Евразийцы не создали цельной эстетики, философии, искусства и литературы. Можно говорить лишь о контурах такой философии. Но они наметили пути, открывающие в известном предмете новые, доселе неизвестные грани, и позволяющие подойти к евразийскому измерению русской литературы. Евразийское измерение русской литературы — это не просто тема Азии, отраженная в многонациональном творчестве отечественных писателей. Это еще идея Азии в ее отношении к идее Европы, выступающая как новая перспектива для России, идея, о значении которой говорили такие столпы русской литературы и мысли как А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, П.Я.Чаадаев, Н.Я.Данилевский, Ф.М.Достоевский, К.Н.Леонтьев и др. Следует подчеркнуть, что идея Азии не в философии и даже не в историософии, а именно в русской литературе отнюдь ни означает простой декларации исторической, культурно-психологической и духовной близости с Востоком, а составляет одну из основ самой художественной ткани отечественной словесности. Литературное выражение идеи Азии связано и с художественным отражением взаимодействия русской и восточной стихий в реальной истории России, и с художественным воплощением русского своеобразия, несводимого в чистом виде ни к европейскому, ни к азиатскому началу, и с особыми художественными принципами проникновения во внутренний мир Азии и восточной души. Относительно последнего следует сказать отдельно.