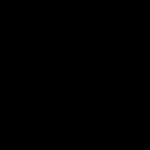Восточная ориентация русской культуры
Пусть завяжутся русским узлом
Эти кручи и бездны Востока.
Ю.Кузнецов
Одно из популярных и расхожих мнений состоит в том, что для русской культуры и мысли точкой отсчета и системой ориентации всегда был Запад. Насколько справедливо подобное мнение, может свидетельствовать раскрытие этимологии самого, казалось бы, известного и понятного термина «ориентация», сделанное учеными Ю.Панасенко и А.Шамаро. Обширную цитату из их статьи мы позволим себе привести:
«Слово «ориентация» перешло в русский язык из французского. Оrientation по-французски буквально означает «направление на восток». Французское слово, в свою очередь, ведет происхождение из латыни, и к нему протянулась целая этимологическая цепочка: oriori — oriens — orient — orienter и, наконец, orientation. Первое слово — латинский глагол со значением появления, рождения, начала, который употребляли обычно с существительным «солнце», когда возвещали о его восходе.
Второе слово — действительное причастие настоящего времени от того же глагола, которое с тем же именем существительным «солнце» составляло устойчивое словосочетание, обозначавшее ту самую сторону света, где восходит солнце, то есть восток. В обычной речи существительное «солнце» опускалось, поскольку говорящим и так было ясно, о чем идет речь (кстати, таким же причастием с «отпавшим» словом «солнце» является и латинское название запада — occidens). В простонародной латыни, постепенно перераставшей в различные романские языки, от этого широко употребительного слова остался только его латинский корень — orient. В этой форме слово вошло во французский язык для обозначения Востока. А от него ведет происхождение четвертое в данной цепочке слово «orienter» — французский глагол со значением «отыскать восток», «направлять на восток», от которого и произошло имя существительное «ориентация» со значением действия, идентичного тому, которое обозначалось глаголом» [1].
Уже один приведенный анализ показывает, насколько неточно и двусмысленно звучит словосочетание «ориентация на запад»: восток как символ восхода солнца, начала, жизненной силы все равно оказывается первичным понятием и константой бытия. Далее ученые убедительно показывают изначальную восточную ориентированность русской культуры, проявившуюся еще с языческих истоков с их солярными культами и закрепленную в православии, где подавляющее большинство храмов своими алтарями было обращено на восток — туда, где восходит солнце. Православие, рассматривавшее себя наследником истинного христианства, при установлении храмов помнило, что согласно преданию, Христос («Солнце Правды») вознесся именно на Восток, откуда он и должен вернуться в Судный День во всей славе и силе, и что Эдем также находился на Востоке. Русская духовная культура представляла собой органический сплав христианства и дохристианских верований, причем православие и славянское язычество сходились между собой прежде всего в любви к созданному Творцом сему миру, каждый день согреваемому по милости божьей солнцем Востока. Старинное латинское изречение «свет с Востока» было для России не пустым звуком, а глубоко прочувствованной внутренней истиной бытия. Отсюда изначальная солнечность, светоносность русской духовной культуры, нашедшие, по мнению И.Ильина, наиболее полное воплощение в русской святости и феномене А.Пушкина, названного современниками «человеком с солнцем в крови». Восточная ориентация была присуща не только русской культуре, но и русской истории, вся внутренняя логика которой, включая прямое устремление народа к колонизации азиатских земель, была нацелена на взаимодействие с многообразным миром Востока. Это отразил первоначально имевший другое значение родовой знак Палеологов — Двуглавый Орел, по таинственной воле истории ставший государственным гербом Российской Империи. Одной его составляющей является глава, обращающая свой взор в правую восточную сторону. Отдельные и, вопреки распространенному мнению, далеко не худшие периоды истории эта «правая восточная» составляющая национальной жизни преобладала над «левой западной». Вместе с тем, помимо восточноцентризма, для российской истории и культуры был характерен евразийский центризм — осознание особенности и уникальности своей срединной позиции между Европой и Азией, Западом и Востоком. Различные направления русской мысли с разных сторон и как бы по отдельности освещали эту двуединую специфику отечественного исторического и духовного бытия. Но одной школе — евразийству — удалось свести рассмотрение двух сторон национальной традиции (ориентацию на Восток и сознание уникальности своего срединного между Востоком и Западом бытия) воедино.
I
К сегодняшнему дню опубликованы (хотя и фрагментарно) произведения большинства литературно-философских школ и направлений русского зарубежья. Между тем, наиболее существенная историософская школа эмиграции — евразийство — за исключением немногих разрозненных публикаций практически выпала из рассмотрения. К тому же, некоторые публикации по своему уровню способны лишь укреплять мифы, сложенные вокруг евразийства еще в тридцатые годы. Однако, по серьезности исследования российской истории и государственности, по глубине проникновения в этнические и духовные истоки русской культуры, по силе прозрения в грядущие пути отечества евразийская школа заметно выделяется среди других движений эмигрантской мысли. Единственное исключение, пожалуй, могла бы составить лишь группа мыслителей, собравшихся вокруг «Нового Града», но, строго говоря, это, несомненно, значительное объединение представляет собой не школу с целостной концепцией, а достаточно формальный и мировоззренчески расплывчатый союз ярких одиночек. Высочайший философский и научно-культурный потенциал евразийцев, сосредоточивших в своих рядах значительные интеллектуальные силы зарубежья, признавали даже их непримиримые противники.
К евразийской школе относилась целая плеяда ярких и талантливых литераторов, философов, историков, публицистов, экономистов первой волны эмиграции. Среди наиболее известных — географ, экономист и геополитик П.Н.Савицкий; философ Л.П.Карсавин; лингвист, филолог и культуролог Н.С.Трубецкой; историк Г.В.Вернадский; музыковед и искусствовед П.П.Сувчинский; религиозные философы и публицисты Г.В.Флоровский, В.Н.Ильин; критики и литературоведы А.В.Кожевников (Кожев), Д.П.Святополк-Мирский; правовед Н.Н.Алексеев; востоковед В.П.Никитин; писатель В.Н.Иванов; экономист Я.Д.Садовский.
Интересно, что евразийство реализовало провозглашенную в своем названии программную установку даже самим характером собственной географии, распространившись в целом ряде стран и европейского, и азиатского континента. Оно имело несколько наиболее крупных центров в Софии, Праге, Берлине, Белграде, Брюсселе, Харбине и Париже, активно и с успехом занимавшихся издательской и лекционной деятельностью. Глеб Струве свидетельствует, что «публичные лекции и собеседования, обслуживавшиеся целым штатом разъездных лекторов» [2], делали идеи нового направления весьма популярными и среди молодежи и среди зрелых эмигрантов в Чехословакии и на Балканах. В Праге и в Париже действовали «Евразийские семинары», на отдельные заседания которых собиралось до нескольких сот человек. Помимо распространения в славяноязычной и романо-германской среде евразийские идеи проникали и в англосаксонский мир — в Англию (благодаря деятельности жившего там Д.П.Святополка-Мирского), и в США (после переезда туда Г.В.Вернадского и Н.Н.Алексеева).
Разнообразные таланты участников евразийства предопределили многогранную творческую направленность самого движения. Евразийство было не просто историософской школой, академически исследующей прошлое, но и геополитическим движением, претендующим на реальное живое участие в государственном устроении будущей России (хотя и отказывающимся считать себя политической партией), а также мощным культурным явлением. За десять лет, с 1921 по 1931 год, евразийцы выпустили несколько крупных сборников статей из серии «Евразийские временники» и «Евразийские хроники». Они издавали также газету «Евразия» и журнал «Версты», где среди прочих материалов важное место занимали их собственные литературно-критические статьи.
Но, конечно, главная ценность евразийства состояла не в обширности его географии или сферы интересов у основателей, а в его идеях, одновременно оригинальных и в то же время внутренне родственных глубинным традициям русской истории и государственности.
Историософскому зрению евразийцев была присуща особая пространственно-временная оптика, творческое восприятие истории, позволившее сквозь привычный образ России увидеть такую историческую и географическую реальность как континент-материк со своей неповторимой судьбой — Евразию. Они сумели поставить проблему Запад-Восток с предельной остротой и глубиной. Евразийство рассматривало русскую культуру не просто как часть европейской, но как самостоятельную евразийскую культуру, вобравшую в себя опыт не только Запада, но и в равной мере Востока. Русский народ с этой точки зрения нельзя относить ни к европейцам, ни к азиатам, ибо он принадлежит к совершенно самобытной этнической общности — Евразия. Подобная двусоставность русской культуры и государственности (одновременное присутствие европейских и азиатских элементов) определяет и особый исторический путь России, ее своеобразную национально-государственную программу, несовпадающую с западноевропейской традицией. Причем восточные истоки для России внутренне ближе западных.
Чем с евразийской точки зрения ценна для России Азия? Прежде всего гением своего духовного прозрения — ведь все великие религии, не исключая и христианство, зародились на Востоке. Запад, который помог прежде всего оформлению института христианства, в творческом плане затем породил соблазнительные социалистические учения, атеистический гуманизм и грозящие гибелью сомнительные достижения цивилизации. Азия близка России «напряженностью своего религиозно-мистического чувства» (В.Никитин) и тягой к абсолютному и куда меньше, чем Запад знает религиозный компромисс, понимаемый как почти юридический договор человека с Богом. Даже Н.С.Трубецкой, критически относящийся к идее заимствования Россией индийских религий, считал, что полезно учиться у Индии трепетному отношению к религии. Духовная близость России к Азии подкрепляется этническим фактором, поскольку русские, полагали евразийцы, — исторически не чистые славяне, а сложная смесь славян, финнов и тюрков, причем, как убедительно показал Н.С.Трубецкой, туранский элемент занимает в русской культуре немалое место. Восточноцентризм России евразийцы более связывали с геополитической сферой, не распространяя ее на религиозную область, где они, как писал П.Н.Савицкий, оставались глубоко православными людьми, для которых православная церковь «есть тот светильник, который им светит». Осознанность этой любви, переросшей уровень безотчетного чувства, подтверждали такие понятия, как «евразийский патриотизм» и «евразийский национализм», иногда выносившийся в заглавия статей евразийцев.
Российские поиски особого пути, «третьей правды», к тому же замешанные на острой критике европейской идеи прогресса и критической оценке демократии, никогда не были поддержаны положительным отношением интеллигенции и прессы. Трудная судьба евразийства и тогда, в эмиграции, и сегодня, в сознании современных западников не является в этом плане исключением. В зарубежье, несмотря на привлекающую многих самостоятельную позицию евразийцев в оценке будущего России (за что их называли «славянофилами эпохи футуризма»), негативные оценки движения все же преобладали. Память о произошедшей революционной трагедии была столь остра, что критикам порой было просто невозможно преодолеть доминирующую эмигрантскую тенденцию — подвергать немедленному остракизму любой намек на неоднозначную роль русской революции или противоречивый смысл европейского парламентаризма. Сегодня противников евразийцев раздражает их антизападничество, и они с охотой используют старинный, сложенный вокруг движения миф, суть которого в том, чтобы представить «исход к Востоку» скороспелой реакцией интеллигентского сознания на революционные события и смуту беженства. Подобную крайнюю точку зрения высказывал в своей статье в «Экономическом сборнике» А.А.Кизеветтер, утверждавший, что евразийство «родилось из ощущений, навеянных 1) великой европейской войной и 2) водворением в России большевизма» [3]. Ему возражал в целом критически оценивший евразийство Н.А.Бердяев, который пытался оставаться в границах справедливости и здравого смысла: «Нравственные обвинения против евразийцев, что они «сменовеховцы», что они приспособляются к большевистской власти и чуть ли не являются агентами большевиков, представляется мне не только неверными, но и возмутительными, свидетельствующими лишь о том, насколько разным староэмигранским направлениям неприятно напоминание о банкротстве их идейной установки в отношении к революции и к тому, что происходит внутри России» [4].
Сама попытка представить евразийство как стремление философски обосновать азиатский лик России, якобы отразившийся в событиях 1917 года и последующем тоталитаризме, не подтверждается свидетельствами отечественной истории. Николай Рерих, целую жизнь отдавший философскому изучению и художественному освоению Азии, утверждал, что контакты Древней Руси с Востоком были гораздо глубже и разнообразнее, нежели это казалось западникам, и осуществлялись через Индию, Среднюю Азию, монголов, татар и других степных азиатских народов. Присоединение Казанского ханства, освоение Сибири, проникновение в Казахстан, на Дальний Восток, общение с калмыками, тувинцами, бурятами, кавказская эпопея — все эти процессы привели к тому, что к концу XIX — началу ХХ века Россия стала великой азиатской державой, в полной мере оправдавшей свой поистине провиденциальный выбор государственного герба. Общение это было неоднозначным, драматическим, в отдельные моменты даже трагическим для русской истории и, вместе с тем, в конечном итоге весьма плодотворным.
Разумеется, следы разнообразного взаимодействия с миром Азии не могли не отразиться в отечественной литературе от ее древнейших памятников и до произведений наших современников. Число примеров огромно. Упоминания об Индии и Востоке есть в «Повести временных лет», «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона, «Повести о Варлааме и Иоасафе», «Хождении игумена Даниила», «Голубиной книге», бессмертной книге Афанасия Никитина, в новгородских и псковских старообрядческих легендах. В XVIII веке «азиатской» темы касались М.В.Ломоносов, А.Н.Радищев, Н.И.Новиков, русский актер, путешественник и мыслитель Герасим Лебедев. В XIX веке (и в дальнейшем об этом речь будет идти отдельно) тема Азии звучит в поэзии В.А.Жуковского, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, А.А.Фета, А.Н.Майкова, С.Я.Надсона, в прозе А.А.Бестужева-Марлинского, П.И.Мельникова-Печерского, Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого. На значительную роль Азии в истории России указывала набиравшая силу отечественная ориенталистика, где евразийцы видели своего предшественника в трудах востоковеда В.В.Бартольда. О внутренней близости русской культуре восточных мифов, легенд, сюжетов, произведений фольклора свидетельствовали открытия таких столпов филологии, как А.Веселовский, Ф.Буслаев, А.Афанасьев. В русской музыке все чаще звучала тема половецких и персидских плясок. В то же время тема Востока в литературе превращались в идею Востока в отечественной историософии, где постоянно шли попытки осмыслить срединное положение России между Европой и Азией.
В последнем столетии духовное излучение Азии, пусть иногда выступающее в форме внешнего восточного колорита, присутствует в произведениях большинства представителей «серебряного века». Несмотря на отчетливо проявившуюся в государственной политике и настроениях общества западническую тенденцию, восточная ориентация русской мысли, кульминировавшая в евразийстве, за последние полтора века неуклонно возрастала [5]. Потому, хотя сами евразийцы видели своих предшественников в лице славянофилов, Н.Данилевского, К.Леонтьева и Ф.Достоевского (как мыслителя-публициста), очевидно, что они опирались на значительно более давнюю традицию русских исканий. Таким образом, становится понятным, что их движение — отнюдь не случайный зигзаг российской историософии, будто бы порожденный искрами революционного пожара и усиленный эмигрантской неприкаянностью, но закономерный итог многовекового развития русской мысли.
II
Справедливости ради нужно сказать, что собственно евразийство началось не в Софии и не в Берлине, а в России еще до революции. Этот «предъевразийский» период движения был связан с научными поисками «старшего» поколения евразийцев — Г.Вернадского, Л.Карсавина, Н.Трубецкого. «Младшее» поколение (хотя разница в годах здесь была минимальная — 5-10 лет) — П.Савицкий, П.Сувчинский, Г.Флоровский — присоединилось уже в эмиграции. Г.Вернадский, с юности тянущийся к изучению роли степной Азии в судьбе нашего отечества, уже в 1914 году писал статьи, где образно сравнивал историческое движение народов России к Востоку с движением против Солнца. Л.Карсавин до своей высылки из СССР в 1922 году опубликовал отдельную книгу, само название которой — «Восток, Запад и русская идея» — говорит о сути его тогдашних интересов. И хотя речь в ней идет в основном о богословско-религиозном аспекте проблемы Запад-Восток в ее отношении к национальной идее, а евразийские восточные приоритеты Л.Карсавина, находящегося тогда под сильным влиянием В.Соловьева, еще не выкристаллизовались в полной мере, антизападничество занимает в настроениях мыслителя существенную роль: «Не в европеизации смысл нашего исторического существования, и не европейский идеал преподносится нам, как наше будущее». Уже тогда, не будучи лично знакомым с другими участниками евразийского движения, известный русский медиевист, сетуя на то, что подлинной «истории Востока у нас нет», утверждает, что важнейшая цель русской культуры «настоятельно требует преодоления ограниченности западного эмпиризма и решительного отказа от суррогата всеединства, именуемых идеалом прогресса» [6]. В то же время одну из задач углубления православно-христианского мировоззрения России он связывает с тем, что христианство должно хотя бы «внешне включать в себя достижения восточной религиозной мысли, говоря точнее — найти эти достижения в себе» [7]. Серьезно размышлял о роли Востока в исторических судьбах и перспективах России и Н.Трубецкой, внимательно изучавший многие, в том числе восточные, языки, мифологию и фольклористику и оттачивающий свое будущее евразийское мировоззрение на заседаниях лингвистического кружка при Московском университете, где помимо обсуждения языковых проблем говорилось о кризисе западной духовности и «необходимости сближения европейских и азиатских тенденций мировой истории» [8]. Когда в Софии, ставшей одним из первых центров эмиграции, встретились и объединились «на общем мироощущении» (Н.Трубецкой) основные участники евразийства, этому объединению предшествовал серьезный путь личных исканий каждого. Революция, в которой молодые мыслители увидели закономерный итог 200-летней европеизации страны, и последующие тяготы беженства, в особенности пренебрежительное отношение вчерашних союзников в Галиполи, сыграли роль катализатора объединения, увидевшего ясные пути в «исходе к Востоку» [9].
В своем идейном развитии евразийство прошло несколько этапов. В начале двадцатых годов это было, по выражению С.Хоружего, не столько «единое учение, сколько набор мыслей, религиозных и историософских у Н.Трубецкого, географических у Савицкого» [10]. Широкие рамки евразийского мировоззрения, не предполагавшего жесткой унификации, позволяли каждому из участников достаточно свободно проявлять свою творческую индивидуальность. Однако затем, во второй половине двадцатых годов, евразийская идеология усложняется и вбирает в себя достаточно противоречивые тенденции. С одной стороны, ее важной составляющей и философским фундаментом становится высокое метафизическое учение об иерархии «симфонических личностей», к высшим звеньям которой относится «идея личного Бога» и Россия-Евразия, представляющая собой «соборность» наций. С другой стороны, движение приобретает все более политизированную окраску, что впрочем принималось далеко не всеми его участниками. Выражая естественную претензию любой серьезной теории увязать себя с практической жизнью, евразийцы попытались дать подробный анализ процессов, происходящих в современной им большевистской России. Разумеется, они не могли обойти тему событий 1917 года, к которым у них было сложное, неоднозначное отношение. Для евразийцев вообще было характерным разделение понятий революции как явления истории, большевизма как чисто национального плода революции и коммунистической идеи как разрушительной революционной идеологии, изобретенной на Западе. Евразийцы предпочитали говорить не о русском коммунизме, как это делал Н.Бердяев, но о русском большевизме.
Согласно Л.Карсавину, революция по своему содержанию и сути есть «длительный процесс вырождения правящего слоя, уничтожения его национально-государственной стихией и создание нового правящего слоя» [11]. Правящий слой не обязательно совпадает с правительством и может быть рассеян в разных государственных структурах, однако, имея власть над общественным мнением и волей различных социальных групп, он во многом задает и поддерживает удобный для себя тип власти. По характеру революция есть медленно назревающий стихийный взрыв, который прерывает плавное течение истории и, как всякая стихия, проявляется в виде волн. Первая волна несет с собой умирание старого правящего слоя, приведшее к потере «престижа российской власти», и утрате жизненного импульса у самой власти на уровне ее человеческого состава. Властная логика истории требовала обновления этого состава, что было невозможно осуществить, не приведя в движение народные массы, т.е. не прибегая к трагическим революционным потрясениям. За первой волной, или фазой, неизбежно следует вторая, проявляющая себя как анархия. Ей присущи такие черты, как вытеснение сознательной жизни, распадение государственного единства, федерализм во всех сферах жизни, сопровождающийся крайним эгоизмом новых атомических социальных образований, каждое из которых не то, чтобы не признает власть, но считает именно себя главным носителем таковой. Однако, на фоне анархии, которую Л.Карсавин определял как «панархию», и которая на сегодняшнем языке называется «парадом суверенитетов», идет подспудный поиск сильнодействующих средств сохранения этнической и государственной целостности страны. В России, в силу ее исторических особенностей, такие средства неизбежно сильнее, чем, скажем, во Франции конца ХVIII века. Революция переходит в свою третью фазу, предполагающую создание жесткой тиранической партии, руководимой революционными идеологами — «насильниками, честолюбцами и фанатиками» (по терминологии Московской Руси XVI-XVII века — «ворами»), и придание этой партии абсолютистского правящего статуса и сращение ее с воссоздающимся государственным аппаратом. И, наконец, после полного устранения остатков сопротивляющегося старого правящего слоя, слой вождей-люмпенов теряет свою роль. Четвертая волна затухающей революции по инерции выносит наверх новый правящий слой: «на место воров-идеологов приходят просто воры» (Л.Карсавин), заботящиеся лишь о себе и, в силу необходимости, выполняющие государственно-настоятельные задачи. В этот момент возникает главная и завершающая проблема революции — народ должен найти подлинное правительство, которое в тесной связи с правящим слоем (перелившимся к этому времени в армию) взяло бы в свои руки слабеющую власть и, возобновив связь с прошлым, возвратило бы народ на его историческую дорогу. (Евразийцы, уверенные, что эта четвертая фаза революции начнется в России вот-вот, может быть во второй половине двадцатых годов, здесь — и за это их справедливо критиковал предвидевший реальность и отошедший от движения Г.В.Флоровский — ошиблись, причем очень сильно — ведь уже кончается ХХ век, а последний исторический аккорд революции так и не прозвучал.)
Почему происходит вырождение правящего слоя? Евразийцы были убеждены, что революция 1917 года — не случайный зигзаг отечественной и мировой истории, но закономерный этап общего нисхождения русской исторической линии, порожденный болезнью оголтелого западопоклонничества. До тех пор, пока Русь была близка к Востоку и воспринимала его благотворное влияние, состояние ее государственности было цветущим. Даже самый болезненный для Руси контакт с Азией — татаро-монгольское нашествие — в конечном счете, по мнению евразийцев, не только обогатило этнический состав народа, но и «вызвало народ из провинциализма исторического бытия мелких разрозненных племенных и городских княжеств... на широкую дорогу государственности» (Б.Ширяев). Принцип веротерпимости, воспринятый Русью во многом от татаро-монголов, лояльно относившихся к православию, и впоследствии успешно примененный нашей державой к покоренным ею в XVI веке татарским ханам и добровольно присоединившимся народам иной веры, способствовал превращению России из национального государства в многонациональное. Напротив, некритическое увлечение Европой, охватившее наше отечество с XVIII века, постепенно превратило могучую державу в антинациональное и антинародное государство. Евразийцы даже выделяли этапы последовательного духовного заболевания и разрушения России в результате прямого или косвенного влияния Запада: события Смуты, реформы Никона, самодержавное насилие Петра I и, наконец, революция 1917 года. Эта национальная болезнь поразила Россию глубже, чем это кажется на первый взгляд. Разрушительным свойством западопоклонничества оказались поражены не только радикально-демократическая интеллигенция, почти безраздельно владевшая к началу века прессой и общественным мнением, но и реакционеры-охранители, ориентирующиеся, по мнению Н.Трубецкого, на антинародную, по сути беспочвенную, идею русской великодержавности, и, вопреки провозглашаемой казенной самобытности, нацеленные на превращение России в могучее европейское государство.
Подобная болезнь разрушает не только политический строй и государственность, но и ведет к расслоению культуры. В таких нездоровых нациях, как предреволюционная Россия, считал Трубецкой, культура верхов отличается от культуры низов не столько количественно (по степеням), сколько качественно: т.е. «низы продолжают жить обломками культуры, некогда служившей степенью, фундаментом туземной национальной культуры, а верхи живут верхними степенями другой, иноземной, романо-германской культуры; в промежутке между низами и верхами помещается слой людей без всякой культуры, отставших от низов и не приставших к верхам...» [12]. Естественно, что в государстве с такой расколотой на несколько частей политической волей и культурой в моменты исторических кризисов не может не возникнуть ситуация, когда, согласно известному изречению, верхи больше не могут управлять, а низы не хотят жить по-старому...
Именно потому за стихийным революционным взрывом, разрушавшим эту противоестественную ситуацию и дававшим возможность для широких масс участвовать в институтах новой государственности, евразийцы признавали определенную историческую правду. Но коммунистическую идею, основанную на замысле насильственным путем сделать культуру низов нормой жизни для всех слоев, они считали вредной, оторванной от органических основ народного бытия. Коммунизм, по их мнению, нельзя выводить, как это делали эмигранты левого лагеря, из российской азиатчины; напротив, вся коммунистическая система есть закономерное порождение европейской политической мысли, «реализация предельного социализма» (П.Сувчинский). В отличие от большинства мыслителей, объединившихся вокруг «Нового Града», евразийцы не считали возможным соединять христианство с социализмом.
В детище, родившемся от скрещения русской революции и коммунистической идеи, — отечественном большевизме — евразийство выделяло два течения. Одно, связанное с троцкизмом, они определяли как «конденсированное западничество», самый далекий от народа и «наиболее одиозный вид коммунизма, которой носит в себе русский большевизм». Другое течение, оказавшее национальное влияние на интернациональный коммунизм, «впитавший в себя много подлинно-русских соков из взрыхленной им в процессе величайшей из революций русской почвы» [13], некоторые из евразийцев связывали с фигурой Ленина. С этой точки зрения, Ленин оказался не столько властителем государственной стихии, сколько ее орудием, закономерно завершающим процесс саморазложения императорской России, на месте которой должна возникнуть Новая Россия — Евразия. (Справедливости ради следует сказать, что большинство евразийцев не принимало подобной позиции в отношении Ленина.) Особенности ленинского крыла русского большевизма они видели его в его бóльшей, нежели в троцкизме, близости к народным нуждам и гибкости в политике (введение НЭПа), а также в противостоянии воле антироссийски настроенного Запада и нацеленности на союз (пусть и по-марксистски своекорыстный) с угнетенными народами Азии. Практическая политика Ленина в последние годы его жизни была во многом основана на отказе от пораженческой программы большевиков в первой мировой войне. Все это позволило в труднейших условиях сохранить целостность России (здесь евразийцы сходились и с И.А.Ильиным, и с В.В.Шульгиным) более успешно, нежели программа «единой и неделимой», провозглашенная белым движением, с позиции чистой этической правды оцениваемого евразийцами как «несравненно более нравственное», чем красный большевизм. Один из главных уроков революции, которые необходимо выучить России, они видели в неистребимой самостоятельности российской судьбы, даже на самом пике социалистической европеизации, противостоящей современному агрессивному Западу. П.Сувчинский видел в «организованной муке» (К.Леонтьев) большевизма особый провиденциальный смысл для отечества: «Революция, изолировав большевистский континент и выведя Россию из всех международных отношений, как-то приближает, помимо воли ее руководителей, русскую государственность (пока что скрытую под маской коммунистической власти) к отысканию своего самостоятельного историко-эмпирического задания и заставляет вдохновиться им» [14].
Добавим от себя, что евразийство может быть, помимо воли и сознания его основателей, вплотную подводит к идее, что специфическое русское задание, нахождение которого ускоряет революционное распятие России, способно помочь не только ей, но и всему миру, поскольку жертвенный опыт «осуществления предельного социализма» на шестой части света есть сжатая по времени и жесткая по сути модель тупикового материалистического пути, по которому более медленно и мягко идет весь мир. Здесь, да и в оценке именно февраля (а не октября) 1917 года как решающего события, прервавшего живую нить русской государственности, евразийцы близки нашему современнику А.И.Солженицыну, убежденному, что в современной России благодаря революции, прошедшей несоизмеримо более богатый путь, по сравнению с Западом, завязаны главные узлы мировой истории. В этих узлах сосредоточен бесценный жертвенный российский опыт, столь необходимый для прозрения всего мира и напоминающий об исторической Голгофе как о единственном залоге последующего национального Воскресения.
III
Можно представить себе, как воспринимала евразийские идеи и размышления не остывшая от обид и уставшая от чужбины эмиграция, которая назвала евразийское движение «белым двойником» коммунизма. Резкая критика «чингизханчиков» объединила таких различных деятелей эмиграции, как П.Н.Милюков, П.Б.Струве, И.А.Ильин, Г.В.Адамович, Д.С.Мережковский, И.А.Бунин. В то же время за полемикой внимательно следила из России новая власть, которую интересовали, разумеется, не оттенки и тонкости в целом критического отношения евразийцев к революции и советскому режиму, а сама возможность разыграть на узком пространстве неоднозначного евразийского подхода свою политическую карту. ГПУ старалось не упускать ни единого шанса, чтобы внедриться в любые организации русского зарубежья и, контролируя их изнутри, попытаться расколоть эмиграцию. Так в истории движения начался новый сюжет, породивший затем в эмиграции миф о евразийстве как движении, работающем на всемогущее лубянское ведомство. Следуя этому мифу, некоторые эмигранты и западные исследователи видели в евразийстве «соблазн националсоциализма» (В.С.Варшавский «Незамеченное поколение». Нью-Йорк, 1956.), «просоветский уклон» (Г.П.Струве «Русская литература в изгнании». Париж, 1964.) и даже «просоветскую организацию» (Ален Бросса «Групповой портрет с дамой» — Главы из книги «Агенты Москвы». «Иностранная литература», 1969, №12.). Между тем, бесспорным и доказанным фактом следует считать то, что в истории с чекистами были замешаны лишь второстепенные и даже третьестепенные, творчески несостоятельные фигуры движения, самой значительной из которых можно, пожалуй, считать мужа Марины Цветаевой Сергея Эфрона, одного из издателей газеты «Евразия» с 1926 по 1929 годы. Главные фигуры и основоположники евразийства никакого отношения к этим контактам с ГПУ не имели, более того, тщательно оберегались могущественным ведомством от любой информации подобного рода. Лубянка хорошо знала кому и какие секреты можно доверять. О непричастности евразийского руководства к сотрудничеству с чекистами заявляли не только Н.А.Бердяев и А.В.Карташов, (способные наблюдать движение со стороны), но и Зинаида Шаховская, непосредственная участница событий, лично знакомая со многими из мыслителей.
Что же в действительности происходило с евразийством, и насколько глубоко было его взаимодействие с советскими спецслужбами, имевшими к тому времени огромную международную структуру и проникшими практически во все эмигрантские организации вплоть до РОВСа, который, несмотря на присутствие корниловцев и дроздовцев, был во многом монархическим объединением? Дело в том, что евразийство, как уже ранее говорилось, с самого начала своего существования не было монолитной организацией. Одни его участники (Н.Трубецкой, П.Савицкий, Г.Флоровский, Н.Алексеев и др.) выражали позицию правого крыла движения, другие (П.Сувчинский, Д.Святополк-Мирский, П.Арапов, Ю.Артамонов) представляли левое крыло, постепенно взявшее курс на теоретическое сближение о некоторыми советскими государственно-политическими идеями. Именно в эту группу, сосредоточенную прежде всего в Париже, «Трест», монархическая организация, скрыто управляемая ГПУ, внедрил несколько своих агентов, среди которых главную провокационную роль выпало сыграть молодому командиру Красной Армии Александру Ланговому. Евразийцев убеждали в существовании сильной и близкой им по духу подпольной организации в СССР, которая якобы хотела установить связи с зарубежьем, устраивали им «тайные» поездки в Москву, где на конспиративных квартирах происходили их встречи с евразийской «оппозицией» красному режиму, командирами воинских частей, священниками. Разумеется, ни евразиец Мукалов, ни Савицкий, совершивший в 1927 году тайную поездку в СССР на законспирированную подпольную конференцию «красного евразийства» и опубликовавший затем статью-отчет о советских впечатлениях под псевдонимом Л.Стрельцов, и другие сотрудники, возившие на родину для пропаганды своих идей литературу на морских судах, всерьез не догадывались, что за всем этим наблюдают весьма внимательным взглядом. Впрочем, в подобном положении оказывались не только евразийцы, но и любые эмигранты, вовлеченные ГПУ в различные политические интриги и потому совершавшие «тайные» поездки для встречи с оппозицией — достаточно почитать воспоминания В.Шульгина о такой поездке. Интересно, что Лубянка даже частично закрывала глаза на то, что евразийские идеи получают в СССР некоторое распространение среди советской элиты (так, по свидетельству З.Шаховской, этим движением весьма интересовался М.Тухачевский). В удобный момент этим можно было воспользоваться для очередного громкого процесса и выявить иностранных шпионов, что было сделано в 1933 году, причем наряду с «засвеченными» фигурами в сталинские жернова попали советские граждане, увлеченные евразийскими идеями и ранее неизвестные НКВД.
Подробности этого громкого процесса, позднее получившего название дела «Российская национальная партия», обнародованы в материалах книги «Дело «славистов». 30-е годы» (М., «Наследие», 1994). В нем было осуждено около 100 человек, обвиненных в связях с «заграничным русским фашистским центром, возглавляемым князем Н.С.Трубецким, Р.Якобсоном, Богатыревым и др.». Подпольному антисоветскому центру вменялись террор, вредительство, создание повстанческих ячеек, вербовка кадров для организации. После жесточайших пыток и массированного давления на психику невинно осужденных людей ОГПУ удалось выбить из некоторых несчастных жертв признания в существовании такого центра на территории СССР, который якобы преследовал цели «свержения советской власти и установление в стране фашистской диктатуры». Среди руководства этого центра было «выявлено» ядро, среди которого числились такие люди, как академики Н.С.Державин, М.С.Грушецкий, В.И.Вернадский, Н.С.Курнаков, В.Н.Перетц, М.М.Сперанский, Г.А.Ильинский, Н.Н.Дурново. Некоторые из них были осуждены и погибли в лагере, других не тронули по причине их слишком большого научно-общественного авторитета. Как обычно случалось в подобных историях со спецслужбами, многие рядовые участники процесса, даже такие замечательные люди, как известный архитектор П.Д.Барановский (его письмо опубликовано в приложении к упомянутой книге), под мощнейшим прессом издевательств, пыток и манипулирования психикой поддались силовому гипнозу и на какой-то момент поверили в справедливость обвинений.
Если с делом «Российская национальная партия» в основном все понятно, и технически устроить инсценировку было несложно, то почему ОГПУ удавались спектакли, подобные операции «Трест»? Как ни странно, но во многом благодаря необычайно высокому авторитету СССР среди кругов левой западной интеллигенции, невольно передававшегося и левым русским эмигрантам. Разрекламированные успехи индустриализации и надежда на сотрудничество с Москвой в плане защиты от фашизма настолько затмили глаза многим французам, что даже происходящие в Москве процессы над «вредителями» перестали пугать их нелепостью обвинений. И, конечно, если даже руководимые П.Милюковым «Последние новости» договорились до того, что «обвинения против С.Каменева и Б.Зиновьева при всех нелепостях выглядят убедительно» [15], что же можно сказать о тех эмигрантах, кто хотел вернуться на родину и готов был на любые трудности, лишь бы искупить свое «белое» прошлое, о котором с продуманной жесткостью напоминали в советском полпредстве? Другой причиной успехов «операций по внедрению» была исключительная изощренность чекистов, блестяще спекулировавших на острой ностальгии у житейски наивных и во многом беспомощных русских интеллигентов. Исследовательница жизни и творчества М.Цветаевой И.Кудрова, воссоздавая перипетии жизненного пути С.Эфрона, получившего в 1931 году первый отказ на свое прошение о советском паспорте и решившем искупить прошлое чисто культурной работой в «Союзе возвращения», считает, что это была первая ступенька будущей западни:
«Вербовщики иностранного отдела НКВД вели свою работу с тонкостью профессиональных психологов. Одно из первых предложений Эфрону было сделано неким обаятельно мягким интеллектуалом из числа советских служащих в Париже. Он предложил помощь в субсидировании какого-нибудь «евразийского» издания — и, конечно, без всякого вмешательства в дело редакции... Постепенность, неторопливость в плетении и затягивании паутины, продуманный выбор «случайных собеседников» — кто сочинял все эти спектакли-ловушки, кто обучал лицедеев, кто разрабатывал режиссуру? Исторически несправедливо, что до сих пор остаются неизвестными имена московских виртуозов [16], сумевших одурманить не только доверчивого Сергея Эфрона, но и таких маститых волков политики, как В.Шульгин или Б.Савинков» [17].
Евразийская история со спецслужбами сложна не только хитросплетениями энкавэдешной игры, но и мотивами, побудившими Лубянку начать рискованную операцию. Нельзя представлять дело таким образом, что нехорошие и коварные разведчики нанесли удар по окопавшемуся в парижских кварталах белогвардейскому врагу из чувства классовой ненависти. Нет, не все было столь просто! Ставшая к концу двадцатых годов государством в государстве Лубянка начала вести свою игру, работая на всякий случай на два фронта сразу. Сегодня многие исследователи сходятся на том, что в определенных кругах советского руководства и, прежде всего, в армии начинали рождаться идеи нового курса, которые с некоторой натяжкой можно было назвать реставрацией. Конечно, она задумывалась отнюдь не как радикальный отказ от всего, что было сделано, а скорее как его укрепление. Однако, во многих случаях все же предполагались крупные изменения. Но для того, чтобы полноценно преобразовать страну, требовались свежие идеи, и возник соблазн в какой-то степени позаимствовать их у эмиграции. В недрах Генштаба вызревал интерес к отвергающим как капитализм, так и социализм идеям третьего пути, которые были близки к евразийской доктрине. Уже говорилось о том, что особое увлечение подобными идеями пережил маршал М.Тухачевский, как известно, побывавший в немецком плену, где содержался в Людендорфе в одном лагере вместе с ярким приверженцем третьего пути генералом Де Голлем. Два крупных военачальника много общались друг с другом и находили общий язык по целому ряду вопросов. Выйдя из плена и попав на родину, М.Тухачевский осторожно намекал на новые идеи, информацию и подходы, полученные в лагере, некоторым своим друзьям из высшего генералитета и заинтересовал немалое количество людей. Конечно, за всем следило зоркое лубянское ведомство, с удовольствием представившее руководству страны общение своих извечных конкурентов-военных как заговор. Но парадокс истории состоит в том, что и сама Лубянка, и ее главный хозяин И.Сталин, впоследствии в известной степени, хотя и в крайне уродливой, искаженной форме, реализовали идеи разгромленного евразийского движения. И возросшая ориентация на чисто национальный путь развития страны, и отказ от некоторых марксистских догм и коминтерновских космополитических программ, и непривычные для коммунистической лексики патриотические лозунги, и возросшая партийная дисциплина, направленная на то, чтобы превратить партию в «орден меченосцев» (вспомним высказывания представителей идеи «исхода к Востоку» о том, что евразийство должно быть «не столько партией, сколько орденом») — все это достаточно яркие свидетельства подобного странного, почти биологического, закона исторической и политической борьбы, согласно которому победитель, уничтожив своего противника, затем как бы перехватывает и во многом осуществляет его идеи.
Исследование проблемы показывает, что история с «Трестом» не оказала решающего влияния на последующие неудачи евразийцев, ибо их отношения с этой организацией прервались в 1926 году, то есть задолго до публичных разоблачений мнимомонархического центра.
Справедливости ради следует отметить, что «одурманенность» была все же отнюдь небезоглядной. «Кламарский» кризис, произошедший в 1929 году, привел к расколу движения, в результате чего издававшая газету «Евразия» (которая действительно отчасти финансировалась лубянским ведомством) группа левых евразийцев во главе с С.Эфроном, была обвинена в восхвалении большевизма, слишком больших симпатиях к революции, извращении сущности евразийства и отстранена от всех дел. Отошел от движения и Л.Карсавин, активнее других принимавший участие в газете. Но к тому времени С.Эфрон по целому ряду прямых и косвенных свидетельств (от поэта Эйснера до руководителя оперативной группы НКВД Орлова) еще не встал на путь сознательного сотрудничества с адской машиной, не догадывался о том, куда ведут нити меценатов, и вносил просоветский уклон в «Евразию» не по расчету, а в силу своей искренней фанатичной увлеченности новой Россией.
В дальнейшем, после убийства в 1937 году советского невозвращенца Игнатия Рейса, замешанный в этой истории С.Эфрон и несколько левых евразийцев вернулись в СССР, где через некоторое время были расстреляны. Та же участь постигла и еще одного участника движения одаренного литературоведа князя Д.Святополка-Мирского, который в 1930 году неожиданно для многих стал членом британской коммунистической партии и через два года уехал в СССР. В данном случае виновны не столько советские спецслужбы, сколько полная непрактичность и розовый романтизм сына бывшего царского министра, коему, в отличие от С.Эфрона, в зарубежье ничего не грозило. Глеб Струве утверждает, что «для знавших его этот поступок представляется продиктованным каким-то духовным озорством, желанием идти против эмигрантского течения, и ничего хорошего для Мирского не сулившим» [18].
После кламарского раскола основатели евразийства и их честные последователи стремятся продолжить первоначальную линию уважения и выпускают сборник «Тридцатые годы». Влившаяся в движение молодежь попыталась взять курс вправо, пойдя на организационное сближение с младороссами и руководителем «объединения пореволюционных течений» Ю.А.Ширинским-Шихматовым, который и раньше сотрудничал с евразийцами, правда больше литературно. В 1932 году учреждается Евразийская Организация, и публикуется принятая на ее съезде декларация, где утверждается православно-религиозная основа всякой практической деятельности движения, и излагается государственно-политическая программа. Некоторое снижение уровня последних евразийских сборников, связанное с резким обновлением состава участников, евразийцы пытаются компенсировать повышением степени их политизированности [19] и в какой-то момент (видимо, чтобы поддержать тонус объединения) были близки к тому, чтобы осознать себя политической партией.
Однако, здесь вступают в действие внутренние законы, определяющие жизнеспособность любого культурного и геополитического объединения многими факторами, в том числе и тем, насколько соответствуют его конкретные исторические прогнозы действительности. Евразийцы в 1926-27 годах провозглашали, что линия, выбранная правительством СССР, при всех своих ошибках ценой жертв кризисов и волевого преодоления трудностей, выведет страну на путь оздоровления жизни, причем эффективнее и быстрее, нежели программа троцкистско-зиновьевской оппозиции или лелеемые в эмиграции реставрационные планы. Однако НЭП, роль которого они оценивали очень высоко, был пресечен сверху, усиливался террор, и стала очевидной иллюзорность надежд на быстрое возрождение отечества. Некоторые мыслители (Г.Флоровский, В.Ильин) отошли от евразийства и сосредоточились на религиозно-богословских проблемах, другие занялись самостоятельным культурно-философским творчеством. Движение утеряло внешний стимул к развитию и примерно в 1937 году как организация угасло, хотя необычайно важно отмечалось, что отдельные его представители (прежде всего Г.Вернадский, П.Савицкий, отчасти Л.Карсавин) до конца своих дней творили в евразийском ключе, а другие, те что отошли, вспоминали о своем увлечении светло (В.Ильин и С.Пушкарев).
Зинаида Шаховская в свое время утверждала: «Я считаю, что пришла пора очистить сущность евразийства от тех, кому НКВД поручил его скомпрометировать. Г.Вернадский, Н.Трубецкой, Л.Карсавин, П.Савицкий были выдающимися учеными с мировым именем. Многие из их трудов могли бы принести пользу Советскому Союзу, который сейчас ищет новые пути. Концепция географического пространства между Европой и Азией с особой исторической судьбой заслуживает внимание современных геополитиков именно сегодня» [20].
Между тем, именно сегодня можно услышать, что евразийские идеи, в особенности национально-государственные построения, несостоятельны в силу несостоятельности организационных претензий самого евразийства как геополитического движения и ошибочности его конкретных исторических прогнозов. Нужно ли доказывать ошибочность подобной логики? Организационные неудачи вообще характерны для многих русских объединений, рождающихся и умирающих по своим загадочным внутренним законам, но из этого никак не следует, что идеи, ими выдвигаемые и обсуждаемые, значимы лишь в определенный исторический момент и тогда же исчерпывают свой потенциал.
IV
Хотя в евразийстве историософская проблематика была наиболее разработанной и явно преобладала над собственно философской онтологической составляющей, все же необходимо специально остановиться на его фрагментарной онтологии. Основу евразийской науки о бытии составляют учение Л.Карсавина о всеединстве, личности и соподчинении личностей различного уровня в мире (иерархический христианский персонализм); идеи П.Савицкого о смысле и о воле к самоорганизации, лежащих в глубине материи, и воззрения Н.Трубецкого об идее-правительнице, упорядочивающей действительность и придающей своеобразные черты тому или иному типу культуры. Иерархический персонализм Л.Карсавина исходил из идеи существования множества личностей (индивид, семья, сословие, класс, нация), каждая из которых, являясь самостоятельной силой на одном уровне, выступает как элемент более широкой и всеобъемлющей личности на другом уровни. Высшая личность, управляющая остальными, — личность Бога. Впоследствии другие евразийцы, прежде всего П.Савицкий и Г.Вернадский, применили доктрину личности к биологическому уровню бытия и стали говорить о существовании «географической личности» — ландшафте или «месторазвитии», влияющем как на отдельную человеческую личность, так и на коллективную личность народа. Если «географическая личность» (природа) подчиняется божественной личности (духу) прямо и непосредственно, то человеческая личность, занимающая данный ландшафт, порой идет против волеизъявления божественной личности. Поэтому карсавинский персонализм, провозглашая уникальность человеческой личности, до конца нерастворимой в высшим начале и оправданной Богом, тем не менее не абсолютизировал исключительно этот аспект личностной неповторимости, а нацеливал (вполне в духе метафизики всеединства) отдельную волю индивида на добровольное подчинение Верховной Воле Личности Творца.
Идеи П.Савицкого о смысле и организации, лежащих в основании бытия, переводили карсавинскую религиозную доктрину на научные рельсы. Идея всеединства получала новый импульс. Чувствовалось, что евразийцами были проработаны и переосмыслены не только исторические раздумья Вернадского-сына, но и ноосферные построения Вернадского-отца. Утверждались концепция монизма и единство мироздания, которое обеспечивалось глубинными смыслами, лежащими в основании материального мира и проступающими сквозь него. Вводилась идея номогенеза, который рассматривался как «заданность, как определенная способность материи к организации и самоорганизации» [21]. Пантеистический идеализм евразийской онтологии конкретизировался в представлениях Н.Трубецкого об «идее-правительнице», понимаемой как духовное начало, производное от Божественной Идеи и способное к творению мира. (Евразийцев, однако, эта идея интересовала только в аспекте творения истории, т.е. не в онтологическом, а в историософском плане.) Звучащие почти научно термины, означающие скрытые разумные тенденции, заложенные в мироздании («заданность», «организация» и «самоорганизация») есть ничто иное, как другое наименование идеи религиозно-мистического триединства: Божественной Воли, «допускающей и предполагающей понятие свободы» [22], Божественного Сознания, насыщающего сотворенную природу радужным смыслом, и Божественного Самосознания, проявленного в человеке как искра творчества и совести, выделяющая его из животного царства. Мир, порожденный высшими силами, предстает у евразийцев одухотворенным организмом, триединым в своем духовно-душевно-телесном бытии и пронизанным общим божественным смыслом. Любой отдельный предмет, участок или процесс этого мира несет в себе частицу, отдельную идею общего смысла. И общая, и частная идея проявляются под действием жизненной силы, энергии, или стихии бытия, без которой свыше предопределенный процесс организации мира просто не осуществится. Перед нами особая онтология, одновременно стихийно-органическая, природная и телеологическая заданная, идеалистическая, духовная. Именно здесь становятся понятными истоки евразийской онтологии, явно восходящие к Платону и представляющие собой своеобразный синтез во многом христианизированного платонизма и философии волюнтаризма и натурализма в духе А.Бергсона. Сплав более чем своеобразный и не лишенный внутренних противоречий!
Историософия евразийцев — это пространное, пронизанное раздумьями повествование о том, как на протяжении исторического пути складывается и раскрывает свое содержание национальная личность Россия-Евразия как во взаимодействии с Востоком и Западом, так и во внутреннем нахождении собственного пути. (Это и составляет основы российского национального самопознания по Н.Трубецкому). Евразийские раздумья о смысле истории опираются на богатую в содержательном отношении отечественную традицию, к которой следует отнести мыслителей славянофильского направления Н.Данилевского, Н.Гоголя, Ф.Достоевского, К.Леонтьева, Н.Федорова, размышлявших об особом пути для России. Среди зарубежных мыслителей прошлого и настоящего к предшественникам и союзникам евразийцев можно отнести Дж.Вико, И.Гердера, немецких романтиков, заговоривших о необходимости для Европы освоения духовного опыта Востока, Жозефа де Местра (Л.Карсавин даже посвятил ему специальный очерк), Г.Тарда, представителей направления «консервативной революции» (Миллера ван ден Брука, Освальда Шпенглера, Карла Шмидта), основателя эонической историософии немецкого мыслители Вальтера Шубарта. Евразийская историософия была близка к так называемой мультилинейной схеме развития человечества, согласно которой история не есть торжество однонаправленного прогресса во главе с Европой, а представляет собой раскрытие всего богатства возможностей, различно представленных во множестве культур. Ценность мультилинейного подхода, считающего основной единицей исторического процесса отдельную цивилизацию, состояла для евразийцев в том, что он позволил «рассматривать как основную ценность культуры ее своеобразие, неповторимость» [23]. Правда, иногда эта основная единица исторического процесса расширялась у евразийцев до размера целого континента, и разговор о судьбах народов велся в континентальном измерении (близком к концепции суперэтносов, разработанной Л.Гумилевым). Поскольку главным континентом, интересовавшим рассматриваемых мыслителей была не Европа и не Азия, а, именно, Евразия, то неповторимость и своеобразие исторического и культурного развития евразийского континента становились центром внимания и основной заботой. Отсюда родился известный тезис, четко очерчивающий пространственные границы того культурного поля, которое обнимал евразийский континент: «Евразия — особый географический и культурный мир». Особенность евразийского мира заключалась в его самобытной срединности, не укладывающейся ни в европейскую, ни в азиатскую формулу и имеющей глубокое сакральное значение. В особенности данная срединность относилась к России. А.Н.Зелинский справедливо указал на это следующим образом: «Если материк Евразия европейские теоретики-геополитики именуют «Хартлендом Экумены» («Сердцевиной Земли»), то Россию евразийцы назвали «Хартлендом Евразийского материка». Географическое пространство между Западом и Востоком, которое занимала и занимает Россия, — становой хребет Евразии. Тысячелетиями через евразийские равнины с Запада на Восток и с Востока на Запад текли племена и народы, рождались и гибли кочевые империи, осуществлялась непрекращающаяся связь между традиционным ареалом Средиземноморско-атлантической цивилизации и восточным Тихоокеанским и геокультурным регионом» [24]. Срединная Россия, выступая, таким образом, континентом внутри континента, определила срединный характер евразийской историософии, ее приверженность к идее третьего пути, пролегавшего между всеми известными полюсами национальной идеологии — белой и красной, правой и левой, тоталитарной и демократической моделями развития. При этом культура, считавшаяся одним из основных факторов, которые обуславливают своеобразие страны или континента, должна развиваться спонтанно и «органически» (Н.Трубецкой). Выступая против позитивистской трактовки органической природы культуры и против органических теорий государства, выдвигаемых такими мыслителями, как Д.Фортескью, А.Шефле, Г.Спенсер, Р.Вормс, И.Блюнчли, биологизировавших социум и государственность, евразийцы все же порой (может быть, сами того не желая) говорили о культуре преимущественно с морфологической точки зрения как о душе, оживляющей государственный организм и живущей по своим сложным циклам. Критикуя натурализм, они не считали нужным отрывать «идею» от «материала» (Н.Алексеев), а культуру от того географического ареала, в котором она развивается. Отсюда противостоящая линейной схеме европейского прогрессизма евразийская склонность к изучению «циклов истории», «ритмов Евразии», «подъемов и депрессий» в развитии России (П.Савицкий со свойственной ему пунктуальностью и добросовестностью выделил симметричное число признаков — 27 с той и с другой стороны).
Исторические построения евразийцев испытали определенное влияний гегельянства. Зарубежный исследователь движения О.Босс писал:
«Евразийцы различали три этапа мировой истории, которые следуют друг за другом, как тезис, антитезис и синтез. Первая эпоха, для которой характерна примитивность техники, прошла под символом господства религии и этики над социологией. Вторая эпоха принесла максимальное увеличение и усложнение техники, господство разума над религией и этикой. Последним явлением этого периода стал марксизм. Третья, лишь находящаяся в стадии становления, эпоха синтеза должна наряду с дальнейшим техническим прогрессом вновь установить господство религии и этики над социологией... Евразийцы, конечно, были убеждены, что обширный синтез должен быть проведен не Европой, а Россией-Евразией» [25].
История в восприятии евразийцев всегда была тесно переплетена с географией. Само по себе это не содержало принципиальной новизны или открытая, ибо географический фактор в историческом процессе с разных сторон рассматривался в трудах И.Гердера, И.Тэна, В.Татищева, С.Соловьева, В.Ключевского, В.Менделеева, В.Ламанского, И.Щапова, В.Докучаева. Но в евразийстве данный момент оказался столь заметным и выпуклым, что оппоненты стали обвинять движение в «географическом детерминизме». Однако, эти обвинения едва ли справедливы: концепция, утверждавшая обусловленность исторического процесса природным фактором отнюдь не выглядела искусственной натяжкой, а представала естественным развитием историософской мысли, осознавшей новые рубежи самопознания человечества. Для обозначения географических границ каждой культуры и определения среды ее развертывания, «почвы», во многом влияющей на характер культурного развития, был введен новый термин — «месторазвитие». (Говоря языком «последнего евразийца» Л.Гумилева, «месторазвитие» — это одновременно и ландшафт, и этнос.) Г.Вернадский полагал, что выбор своего «месторазвития», осуществляемый тем или иным народом, не произволен, а предопределен, причем не только природно, но и провиденциально. Мистическая тяга к обладанию своим жизненным пространством побуждает народы к переселениям, миграциям, мирным колонизациям новых территорий (в случае, если они ему пока не принадлежат, но суждены) и к справедливым, оборонительным по сути, жертвенным войнам (если принадлежащая народу его исконная земля несправедливо и против его воли захватывается агрессором). Поэтому патриотизм русских, основан на их беспрецедентной мистической привязанности к своей земле, а наблюдаемое на протяжении всей истории непрерывное и упорное стремление русского народа как на Запад, так и на Восток «против Солнца» не есть имперские амбиции (ибо строго говоря, историческое время Российской империи составляет незначительную часть от общих сроков существования нашего государства), но представляет собой внутреннюю глубинную логику «месторазвития», никак несводимую к мелкому честолюбию отдельных личностей.
По мнению Г.Вернадского, культура, возникающая в результате взаимодействия территорий и народа, на ней проживающего, всегда несет на себе печать почвы и в своих материальных проявлениях, и в своем тончайшем духовном измерении. (Уже одно это является ярким свидетельством о генетической родственной связи движения с идеями почвенничества). Своеобразие отечественного уклада жизни, культуры и государственности определяет, таким образом, евразийская «почва», само пространство «срединной Евразии», главными географическими зонами которого является лес и степь. Характеризуя влияние данных двух факторов на русскую историю, исследователь евразийства В.М.Хачатурян пишет: «В области экономической эта особенность географии отразилась в сочетании двух способов хозяйственной деятельности — скотоводства и земледелия. Лес и степь — это также два разных способа жизни (оседлый и кочевой) и, соответственно, разные типы мировосприятия и религиозности, две системы духовных ценностей. Таким образом, география Евразии предопределила соединение в ней двух культурных миров, не похожих друг на друга, нередко противоборствующих, но тем не менее сливающихся в единое целое» [26].
Русская история в евразийском изложении предстает ареной борьбы двух принципов «леса» и «степи», стремившихся сыграть главную партию в построении единой государственности и культуры. Борьба эта, временами принимавшая весьма драматические формы, иногда сменялась периодами гармонии, примирения двух противоположных, но внутренне тяготеющих друг к другу стихий. Евразийцы обозначили несколько этапов подобной борьбы. Так, начало собственно русской истории и выделение славяно-русской народности характеризуется попытками объединения степи и леса, предпринимаемыми нашими «лесными» и «степными» предками для получения выгодного обмена соответствующими природными продуктами. Затем складывающийся союз между «лесом» и «степью» с конца X и до середины ХIII веков подвергается испытанию: русский народ колеблется, ощущая тягу противоположных полюсов, и оказывается в пристепье (это соответствует тогдашним ожесточенным столкновениям Руси с печенегами и половцами, а также внутренним междоусобицам русских князей). Монгольское завоевание означает полную победу «степи» над «лесом», способствующее превращению Руси в сильное, внутренне единое государство. Следующий период (условно 1452-1696 годы) связан с торжеством «леса» над «степью» и соответствует русскому отвоеванию у татар Казани, Астрахани и Сибири, а также овладению устьем Дона и взятию Азова Петром I. И, наконец, пятый период (приблизительно с 1696 по 1917 год) можно определить как эпоху нового объединения «леса» и «степи» «в отношении хозяйственно-колонизационном» (Г.Вернадский) и расширения России почти до естественных пределов Евразии.
В оценке этой борьбы и анализе логики истории в евразийских трудах при всей их эмоциональной страстности и напряженности совершенно отсутствовал какой бы то ни было намек на сентиментальность в отношении к побежденным тенденциям ближайшего прошлого. Евразийская историософия пронизана преклонением перед силой победителей, особенно если эта сила способствовала превращению России в могучий организм с крепкой государственной волей и единым духом, в большей степени ориентированным на восток. Потому в определенной степени оправдывались и монголы, и даже русские большевики с их азиатской стихийной силой (но не космополитические интеллигенты-марксисты!). Напротив, деятельность Петра Великого, продолжившего пространственную экспансию страны в восточном направлении, оценивалась все-таки преимущественно негативно, ибо она закладывала в духовный фундамент Империи вредные западнические тенденции, которые рано или поздно ослабят государственный организм вплоть до повреждения территориальной целостности. Прагматичность идеологии евразийцев (хотя и одухотворенная признанием православия в качестве наивысшей ценности бытия), их стремление оправдать победившую доминанту эпохи, подкрепляемое апелляцией к гегелевскому тезису о «хитром духе истории» (выражение, почти буквально повторяющее слова Иосифа Волоцкого), и в особенности их практические попытки опереться на победителей и использовать их в своих целях (надежда встретить в советском руководстве прозревших от партийного дурмана младобольшевиков, способных воспринять «свежий ветер Азии») — все это вызывало острую критику со стороны православно ориентированных мыслителей, таких как И.Ильин и Г.Флоровский.
Евразийцы были склонны видеть необратимый характер логики истории, и высказывание «история не терпит сослагательного наклонения» вполне применимо к ним и в известной степени объясняет их нежелание производить над историей (в особенности над ее ближайшим периодом) какой-то отдельный поспешный суд, как бы стоящий под ней. Они не видели более точного и справедливого судьи, нежели исторический отбор, уничтожающий слабое и сохраняющий все жизнеспособное. Из этого, однако, нельзя делать вывод (как порой пытаются) о некоем историософском имморализме евразийцев. Признавая «красных» более жизнеспособным историческим образованием, и одновременно менее нравственным, а «белое» движение не столь жизнеспособным, но зато духовно несравненно более высоким, они утверждали, что сопротивление большевикам, даже в случае его полной практической безнадежности, было необходимо для этического оправдания «белых» (а шире всей Белой России) перед судом истории. В свою очередь, некоторое оправдание большевизма, производимое евразийцами, проистекало отнюдь не из преклонения перед идеологией большевизма (хотя, по их мнению, «белые» проиграли именно потому, что не имели столь мощной — несмотря на весь ее примитивизм — всеобъемлющей и хилиастически напряженной идеи построения царства справедливости на земле, как «красные»), а из их понимания большевизма как нового вида варварства, необходимого для осуществления «грязной работы» истории — разрушения старого мира и культуры (не менее обаятельной, нежели римская культура, уничтоженная древними варварами, расчистившими дорогу христианству) и утверждения культуры новой. Это разрушение представлялось предначертанным и заданным свыше (намек на это содержится, по мнению П.Савицкого, в Библейском откровении «о том, что, по закону сопряжения крайностей, принуждены прийти и крайние материалисты...»[27]). Евразийство, таким образом, никогда не было нигилистической апологией чистого разрушения, но скорее представляло собой политическую идеологию футуристического типа [28], видевшую свою задачу в построении будущей великой евразийской культуры. Именно поэтому П.Савицкий считал одной из главных идейных целей своего движения в «раскрытии заданностей» и «валоризации» русской революции (т.е. в оправдании и постижении ее глубинного онтологического и ценностного смысла). С этой течки зрения религиозный смысл временного отпадения народа от Бога и стихийного разрушения всего прежнего уклада жизни «до основания» состоит в испытаниях и опыте страдания, дающих возможность вернуться к основаниям веры и истины на новом, более высоком уровне.
Обозначим еще несколько перспективных евразийских созидательных идей, на наш взгляд достойных стать гранями возрождающейся «русской идеи».
Идея русского национально-культурного своеобразия
Евразийцы считали, что в трудном XX веке Россия еще более, нежели раньше, должна сосредоточиться на поисках своего национально-культурного задания. Если внешние черты российского своеобразия, проявляющиеся во взаимодействии с другими народами, осознаны национальными мыслителями и даже определены Ф.Достоевским как «всемирная отзывчивость» (правда, в последние два века все более отзывающиеся на звуки западных сирен), то внутреннее культурное задание России до конца не определено. Сущность своеобразия русской культуры евразийцы, в отличие от своих учителей-славянофилов, видели не в славянстве, но в единстве восточной и западной культуры, причем это единство представлено в России не как механическая сумма двух величин, но как река, органически вбирающая в себя два великих притока. Россия должна осознать себя наследницей, преемницей и хранительницей двух великих евразийских культур прошлого — культуры эллинской, сочетающей в себе элементы эллинского «Запада» и древнего «Востока», а также культуры византийской, вобравшей в себя влияния восточно-средиземноморского мира поздней античности и средневековья (П.Савицкий). (В своей критике современной западной культуры евразийцы иногда перегибали палку.) Идея национально-культурного своеобразия предполагает и особую концепцию культуры, отвергающую универсалистскую западноевропейскую теорию, при которой народы делятся на культурные и некультурные, причем, область культуры во многом смешивается с достижениями науки, техники и «внешней» цивилизованности. Культура обязательно должна включать в себя область религии, духовности и нравственности и осознавать их безусловное первенство в сравнении с материально-бытовыми культурными проявлениями. Лишь тогда унифицирующая доктрина универсального прогресса, как якобы единственно верного направления в развитии культуры, устанавливающая искусственные механические мерки «степени прогрессивности» самобытных национальных культур, отпадает как крайне поверхностная теория. Будущая культура России впитывает в себя лучшие достижения всех слоев, сословий и классов, но образцами и ориентирами в развитии культуры в большей степени должны считаться достижения высших слоев.
Идея бытового исповедничества в православии
Конечно, эта идея евразийцев не имеет ничего общего с компромиссами революционного обновленческого движения в церкви. Они считали, что для церкви недопустимо искажение вечных духовных истин в угоду времени. Напротив, требуется извлечение исторических уроков из реальных ошибок и заблуждений русского христианства. Ведь в своем конкретном историческом существовании не только западная, но и восточная русская церковь не раз отступала от чистоты апостольских заветов. Резкий отрыв веры от бытовых сторон русской жизни после реформ Никона, несамостоятельное поведение под давлением государственной воли при Петре I, тяжеловесно-казенный стиль православной политики при Александре III, увлеченность соблазнительными религиозными ересями и материалистическими учениями от латинства до социализма в начале XX века — все это, по мнению евразийства, в эпохе торжества «новой веры» подлежит неукоснительному изживанию. Православие должно стать еще терпимее, чем прежде к иным религиям и неправославным народам, рассматриваемым евразийцами, как «потенциальное православие» (Л.Карсавин), еще ближе к жизни и быту (евразийская доктрина «бытового исповедничества»), еще изощреннее и мощнее в своей высокой борьбе с атеизмом. Лишь тогда оно сможет выполнять возросшие задания истории и осенять своим творчески благодатным покровом все необходимые для благоденствия России достижения науки, техники и хозяйственные основы бытия. Вопреки критикам движения, утверждавшим, что православие для него есть прежде всего элемент идеологии, и что реальной мистической силой, его вдохновляющей, были некие «континентальные архонты» и «демоны государственности», сами евразийцы постоянно подчеркивали свою полную преданность и духу, и букве христианской православной церкви.
Идея преодоления революции
Сама по себе эта идея не оригинальна и не раз выдвигалась эмиграцией, но у евразийцев она интересна своим соединением с методом ее осуществления. («Идеология должна быть методологией» П.Сувчинский). Чтобы правильно бороться с революцией, необходимо, утверждали евразийцы, разграничить внешний, исторический, и внутренний, духовный, уровни борьбы. Критический анализ и осуждение самого духовного смысла революции не должны приводить к прямой борьбе в эмпирико-политической плоскости, т.е. к попыткам реставрации прежнего строя путем интервенции и диверсий — это лишь усилит коммунистическую диктатуру и отсрочит ее падение. Иначе говоря, необходимо принять государственно-политические результаты революции как «неустранимый геологический факт» (П.Сувчинский). Историческое возрождение России нужно начинать на базе советского строя, медленно очищая его от коммунизма. Бессмысленно пытаться устранить его насильственно через новый социальный взрыв — лишь продуманное тщательное улучшение его во всех планах даст благотворный результат. В духовном аспекте это улучшение предполагает решительный отказ от атеизма во всех его формах, в том числе от наиболее опасной — «воинствующего экономизма». Если в прежние, более религиозные по сути, эпохи ранняя экономическая философия древних культур и весь материальный уклад жизни были подчинены нравственно-духовным началам, то в новое время экономическая философия стала резко доминировать над духовной составляющей мировоззрения. Политэкономия марксизма и исторический материализм есть наиболее законченное выражение западноевропейского «воинствующего экономизма». Что касается Запада, то его нравственное оскудение есть, по мнению П.Савицкого, та цена, которую он заплатил за несомненные экономические достижения. Преодоление революции невозможно, считали евразийцы, без пробуждения исторической памяти, отказа от западничества, осознания суверенности национальной задачи, а также правильных психологических установок и духовного настроя народа и правящего слоя — без великого терпения, глубокой религиозности, патриотического самосознания и одухотворенного прагматизма.
Идея будущего государственного строя россии (идеократия)
Утверждая, что для характеристики государства главное — не тип формы правления, а тип отбора правящего слоя, Н.Трубецкой выделял два типа такого отбора: аристократический, выбирающий правящий класс по принципу генеалогии и знатности происхождения, и демократический, формально производящий отбор по признаку отражения общественного мнения и получения общественного доверия. Евразийцы были убеждены, что фактически правящие слои демократического типа не столько отражает волю народа и общественное мнение, сколько манипулирует ими, внушая собственные идеи под видом мнения самих граждан. Исходя из этого, многие из евразийцев считали монархию непригодной для будущего России в силу исторической обреченности этой утратившей связи с народом формы правления, а демократию — в силу ее исторической чужеродности, псевдонародного характера и безыдейности. Наиболее органичный для России государственный строй должен вбирать в себя лучшие черты монархии (авторитарность и силу, не переходящие в тоталитарность) и демократии (участии широких масс в государственном строительстве, но не формальное, а реальное).
Главное, чтобы этот строй наиболее эффективно позволил выдвинуться самым талантливым и творческим людям, для которых любые государственные и хозяйственно-экономические идеи и программы есть не самоцель, но явление, подчиненное духовно-патриотическим началам. Советский строй, осознаваемый евразийцами как база для дальнейшего развития, должен постепенно эволюционировать в выковываемый самой жизнью новый тип отбора правящего слоя — идеократию, или народную автократию. Идеократия есть одновременно сильная и чрезвычайно близко стоящая к населению власть, наилучшим образом сочетавшая «народный суверенитет с началом народоводительства». Народ при этом идейно и культурно руководим выражающей его волю инициативной частью. Политическая воля правящего слоя снизу контролируется законодательно представленной в органах управления народной волей, а сверху — добровольно принятыми идеями и ценностями патриотического и религиозно-духовного характера.
Идеократия не есть строй, растворяющий личность, тем более верховную, в некоем аморфно-роевом правящем коллективе. Напротив, роль личности как фактора, способного организовать людские массы на путь государственного созидания, в этой форме правления возрастает. Кроме того, облегчается возможность выдвижения такой яркой, одаренной импульсом государственности, личности к вершинам власти. Этому должно способствовать воспитываемое в народе евразийско-идеократическое правосознание, которое позволит избежать двух, справедливо выделенных И.А.Ильиным, опасностей государственного устройства. Это — потенциальное недоверие к любому правлению, оформленное в виде различных, свойственных для республиканской формы правления, законодательных ограничений, по существу лишающих правительство власти; и напротив, наивно-безоглядное доверие народа к монархии, чреватое угрозой перерождения ее в тиранию и диктатуру. Воспитание нравственного евразийско-идеократического правосознания, гармонически сочетающего религиозно-духовные, этнические и социально-политические проявления государственности, есть лучший способ формирования созидательной духовной атмосферы общества — главного нерушимого механизма возрождения и процветания державы. Евразийцы так же, как И.А.Ильин, были убеждены, что успешно выбраться из под обломков большевизма (падение которого — вопрос времени) Россия сможет лишь в случае, если в переходный период удастся удержать эту созидательную духовную атмосферу достоинства и веры в национально-народные силы — признак сильной, устойчивой, уважаемой и уважающей народ патриотической власти.
«Красной» идее нужно противопоставить еще более мощную и всеобъемлющую евразийскую идею, способную пронизать собою все этажи национального бытия. Тогда на новом историческом витке можно будет подойти к воскресению величественного русского задания, которое наши предки осознали еще с древних времен — построению Государства Правды, соединяющего в себе правовые законы и гарантийные нормы с началами нравственности и совести. Идея эта является тем ключом, который открывает тайну управления огромными пространствами Евразии, и евразийской психики, нормально ощущающей себя лишь в случае причастности к великому и справедливому государственному целому.
V
Евразийство было заметным культурно-литературным явлением 20-30-х годов. Оно оказало определенное влияние на литературный процесс русского зарубежья, что не всегда признавалось его оппонентами и критиками. Так Г.Струве считает, что чисто литературное присутствие евразийцев в эмигрантской культуре было довольно слабым. Однако, если судить по огромной полемике, развернувшейся вокруг евразийцев в ряде журналов (прежде всего в «Современных записках» и «Пути»), по вниманию к ним (пусть даже и желчному) со стороны таких крупных философов, литературоведов, критиков и публицистов, как П.Б.Струве, И.А.Ильин, П.И.Новгородцев, В.В.Шульгин, П.Н.Милюков, В.Ф.Ходасевич, А.А.Кизеветтер, И.В.Гессен, Ф.А.Степун, М.Л.Слоним, З.Н.Гиппиус и др., по участию в евразийских изданиях тихих философов, как Л.И.Шестов, С.Л.Франк, Н.А.Бердяев, П.Б.Струве, Г.П.Федотов, и таких литераторов как М.И.Цветаева, А.М.Ремизов, Вс.Ник.Иванов и, наконец, по литературоведческим и литературно-критическим произведениям самих певцов идеи Евразии, то такое присутствие предстанет весьма значительным. Собственное художественное творчество евразийцев — и в этом Г.Струве безусловно прав — не позволяет говорить о значительных достижениях. Стихи П.Савицкого, написанные под псевдонимом П.Востоков, подкупают своей искренностью и глубоко патриотическим настроением, однако с чисто литературной стороны оставляют желать лучшего. Однако проза харбинского евразийца Вс.Ник.Иванова заслуживает самого серьезного внимания.
«Евразийские хроники» и «Евразийские временники», помимо широко представленной политической публицистики, в основном состоят из статей историософского, религиозно-философского и культурологического характера. Однако в них встречаются публикации литературно-критического и даже литературоведческого плана, написанные в виде обзоров, рецензий, исследований и эссе. Кое-какие текущие материалы на темы литературы публиковались в газете «Евразия». Но главным периодическим литературным изданием евразийцев был журнал «Версты» (за 1926-28 годы вышло три номера), на своей обложке имеющий следующую запись: «Издается под редакцией П.П.Сувчинского, кн. Д.П.Святополка-Мирского и С.Я.Эфрона при ближайшем участии Алексея Ремизова, Льва Шестова и Марины Цветаевой». Центральная идея, провозглашаемая журналом, заключалась в открытии и публикации всего «лучшего» не только в эмигрантской, но и в советской литературе. Издатели «Верст» полагали, что произошедшее по воле судеб разделение на «красную» и «белую» литературу, не относится к этому «лучшему», представляющему собой вершину единой литературы Новой России. По мнению евразийцев, разглядеть такое внутреннее единство «лучшего», пробивающегося сквозь «жесткую» государственную цензуру общественного мнения, преобладающую в литературе зарубежья, все же значительно легче, находясь в мире, свободном от диктатуры пролетариата. Видя в этом одну из миссий честной литературной эмиграции, «Версты» пристально изучали все происходящие в СССР процессы (прежде всего в области литературы) и стремились дать объективную картину общественной и культурной жизни покинутой родины. «Третья» позиция евразийства в эмиграции, не принимавшего ни сменовеховской идейной капитуляции перед большевизмом, ни «белых» идей реставрации старой России, целиком разделялась «Верстами». Не устраивали их и либеральные идеи, нацеливающие Россию на движение по европейскому пути [29] устроения жизни. В своей устремленности к российскому самостоянию и национальному самоопределению страны, как к особому культурному миру, не повторяющему в чистом виде ни западные, ни восточные черты, «Версты» продолжали линию, начатую русским журналом левого студенческого союза в Чехии «Своими путями».
Позицию «Верст» характеризовало критическое отношение ко «многому в зарубежной литературе» (Г.Струве), и такая платформа была вполне осознанной. П.Сувчинский утверждал на этот счет: «Мы собрались, чтобы противопоставить себя литературному течению, главенствующему тогда в Париже» [30]. Однако, подобное противостояние не было критичным, что подтверждается как постоянным декларированием журналом идеи духовной свободы (это сближало его с господствовавшим в тогдашней литературе «белым» направлением и, напротив, разъединяло с «красной» литературой), так и реальной терпимой политикой журнала, печатавшего статьи своих критиков и идейных противников. Потому «Версты» при всем своеобразии своей позиции все же вполне соответствовали духу эмигрантских журналов. Об этом свидетельствует и литературная интуиция издателей «Верст», старавшихся выделить в «материковой» литературе «лучшее» и нетленное, но в конечном счете разошедшихся в этом с оценкой официальных руководителей советской литературы. Г.Струве резонно замечает, что «в самой советской литературе Мирского и «Версты» привлекало именно то, что вскоре оказалось несозвучным партийной линии: Б.Пастернак, И.Бабель, экспериментаторство И.Сельвинского» [31]. К этому списку «экспериментаторов» можно добавить и некоторые другие, привлекавшие евразийцев и отвергнутые партийным руководством словесности имена и фигуры, в большей степени следовавшие классической традиции отечественной литературы — С.Есенин, А.Веселый, отчасти Б.Пильняк. Помимо всех перечисленных выше авторов приверженцы идеи «исхода к Востоку» опубликовали произведение А.Белого и Ю.Тынянова и относили к литературе, «вращающейся в кругу евразийских идей» (П.Савицкий) творчество Л.Леонова, А.Яковлева и К.Федина. Д.Святополк-Мирский написал цикл статей о творчестве А.Толстого, В.Хлебникова, Э.Багрицкого, М.Светлова, Н.Тихонова. С определенного момента они стали высказываться еще определеннее и заговорили даже о «евразийской струе» в советской литературе, существующей, разумеется, не как организованная школа (это было бы просто невозможно по объективным причинам), но как отражение общего настроения, которое носится в воздухе, распространяясь по обе стороны искусственно разделенной надвое единой российской культуры, и которое, по мнению Н.Трубецкого, присутствует «в стихах М.Волошина; А.Блока, С.Есенина и в «Путях России» И.Бунакова-Фондаминского» [32].
Настроение это разделялось далеко не всеми представителями литературной эмиграции, критические оценки преобладали. Достаточно полное представление о реакции художественного Парижа на вышедший номер «Верст» дает тот же Г.Струве: «В «Современных записках» им посвятил большую статью В.Ф.Ходасевич, главные свои стрелы, направивший против Д.Святополка-Мирского и его литературно-критических статей. В «Русской мысли» главный идеолог и лидер пораженчества П.Б.Струве назвал «Версты» «отвратительной ненужностью» и охарактеризовал «дух», которым «несло» от них, как «гниль и распад,, выверты и приплясывания», как «какие-то гаденькие и подленькие пирушки по поводу чумы», признавая, впрочем, что в «Верстах» «есть содержание, не лишенное интереса для историка культуры и любителя литературы, и что «даже в том, что пишет сам кн. Святополк-Мирский — если зажать нос — можно распознать интересные мысли и сопоставления» [33]. Раздражало эмигрантов многое: и нередко встречающаяся в «Верстах» критика не только «белой» идейной позиции, но и «белой» художественной линии; и обилие советских имен и публикаций; и казавшееся им слишком лояльным отношение к «красному» эксперименту. Порой критика была продиктована чисто вкусовыми разночтениями и групповыми литературными напряжениями, неизбежно обострявшимися в условиях зарубежья. Но громкая критика также симптоматична и нередко относится к разновидностям своеобразной заинтересованности: серые безликие издания и произведения попросту не были замечены. Чем же были интересны для коллег по перу литературно-критические статьи основателей и поклонников рассматриваемого движения?
Среди евразийцев было не так уж много чистых профессиональных исследователей литературы и критиков — Д.Святополк-Мирский, А.Кожевников (Кожев). Что касается Н.Трубецкого и П.Сувчинского, то, хотя оба выступали в жанре литературной критики, тем не менее, первый был скорее философом, филологом и лингвистом, а второй — политическим публицистом и одновременно теоретиком искусства, эстетиком-мыслителем. Но, поскольку идея Евразии была в определенном смысле идеей фикс у всех перечисленных выше авторов, то их статьи, посвященные литературе, в какой-то степени играют служебную по отношению к главной историософской тематике роль и вторичны по отношению к ней, ибо нередко направлены на то, чтобы проиллюстрировать магистральные идеи на художественном материале. Это, однако, не сказывается на высоком литературном уровне данных статей, некоторые из которых имеют самостоятельную эстетическую ценность. В наибольшей степени это относится к статьям Н.Трубецкого «Хожение за три моря» Афанасия Никитина как литературный памятник»; Д.Святополка-Мирского «О московской литературе и протопопе Аввакуме», «Веяние смерти в предреволюционной литературе»; П.Сувчинского «Знамение былого» (о Лескове), «Типы творчества» (о Блоке). Тем не менее, отмечая весомое опосредованное влияние евразийства на литературный процесс (кстати не окончившееся до сих пор), необходимо признать, что оно не создало такой художественной школы, представители которой пытались бы осуществить прежде всего художественное воплощение каких-либо идейно-теоретических концепций. Основатели и вожди евразийства как историософского учения выступали также в качестве литературоведов и литературных критиков, которым удавалось не столько вдохновлять других литераторов на сознательное осуществление евразийских идей в творческой практике, сколько самим улавливать евразийскую стихию и дух, бессознательно и органично проявлявшихся у талантливых русских писателей.
Понятие «стихия» вообще относится к числу наиболее употребляемых понятий в евразийских статьях как историософского, так и литературного толка. Стихия и ее синонимы — сила, энергия, воля — притягивали внимание любого исторического и культурного явления, или процесса. Может быть поэтому одно из главных понятий, примененных последним евразийцем Л.Н.Гумилевым, «пассионарность» несет в своем существе такой мощный стихийно-энергетический заряд. Евразийские взгляды на искусство и литературу во многом родственны их историософским представлениям («государственной органике») и потому могут быть названы «эстетической органикой». Являясь прежде всего не законченной концепцией, но наброском, евразийская «эстетическая органика» видела каждое произведение не столько порождением творческой фантазии художника, сколько выражением исторической стихии и силы живой жизни, пропущенной через сознание автора и оформленное его творческой волей. Однако эта «органика» не столько натуралистическая, сколько духовная, ибо глубинной основой бытия евразийцы считали Дух. Произведение, таким образом, представало в виде некоего организма, «плоть» которого оживлена стихийно-энергетическим зарядом и одухотворена высшей духовной «идеей-правительницей». Другие излюбленные понятия евразийской эстетики — «здоровый реализм», «творческая воля», «напряженная действенность, «событийность», «ритм», «творческие циклы», «народность», «правда» также лежат в русле «стихийно-энергетического» мировоззрения. Перед нами не просто размытые поэтические метафоры, но и особый способ оценки произведения, при котором предпочтение отдается текстам, пусть и незавершенным в чисто художественном смысле, но несущим в себе мощный энергетический заряд, жизненную силу. Творения эстетически изысканные, но лишенные исторического оптимизма и жизнеутверждающей энергии, казались евразийцам порождениями уходящее культуры. Отсюда резкое неприятие упаднического духа, любых форм декадентской изломанности, эстетического художественного самолюбования и вообще всех форм субъективизма. Выступая защитниками и последователями «здорового реализма» (П.Сувчинский), евразийцы считали наиболее плодотворным для отечественной словесности тот тип творчества, который идет от живой жизни и нацелен на оздоровление нациоíально-исторической стихии, и который они связывали с линией А.Пушкина, Н.Лескова, Л.Толстого. Менее плодотворный путь для русской литературы — это линия Н.Гоголя, Ф.Достоевского, Л.Андреева, А.Белого, связанная с самодовлеющим творческим субъективизмом, при котором творец предпочитает создавать свой художественный мир из себя самого. (Впрочем, лекции Н.Трубецкого о Ф.Достоевском свидетельствуют о том, что не все евразийцы мыслили подобным образом.)
«Здоровый реализм» евразийцев опирался на принцип народности, предполагающий глубокое проникновение во внутренний мир героя и отыскивание там самого лучшего человеческого духовного содержания. Примером подобной народности было для П.Сувчинского творчество Н.Лескова: «Жизнь каждого, даже самого незаметного, было для Лескова сосредоточенное и значительное житие, причем это не было вдохновенным подходом к действительности изнутри, а редчайшим даром ухватывания, усматривания истинного подвига и славы в тайниках и порослях жизни» [34]. Подобная изобразительная сила, считали евразийцы, достигается Н.Лесковым, благодаря особому художественному методу, который совмещает рассказ от первого лица с народным словотворчеством. П.Сувчинский утверждал, что для Н.Лескова «слово — не застывшие понятие, условно установленное, а живая звуко-смысловая форма выражения, эластично подчиняющаяся своему содержанию. Чтобы так творить, чтобы получать полную свободу в выборе слов и подчинении их внутреннему существу смысла, чтобы так гениально формулировать слова для получения новых, более выпуклых, форм выражения — нужно находиться в самой стихии народного светозрения, в стихии народной, гениально-бессознательной импровизации слова» [35].
В призывах к литераторам учиться художественному проникновению в истоки русского слова евразийцы предлагали не останавливаться на лучших образах литературы ХIХ века, а двигаться дальше, в толщу веков, где они видели высочайший образец народного языка в произведениях протопопа Аввакума. В своем тонком анализе Д.П.Святополк-Мирский убедительно показал, что сторонник старой веры Аввакум создал новый литературный язык, преодолев книжный стиль прошлой эпохи. Склонный к парадоксам и смелым суждениям критик утверждает, что в ХIХ — начале XX века развитие литературного языка пошло по двум путям — петербургскому, книжному, представленному традицией М.В.Ломоносова, Н.Карамзина, А.Пушкина, и естественному, народно-разговорному, наиболее полно выраженному Л.Толстым, В.Розановым и розановским последователем Дмитрием Болдыревым. Преодоление книжности Д.Святополк-Мирский связывал вовсе не со стилистическим подражательством или лексическим заимствованием: «Не надо писать, как Аввакум, как Толстой, как Розанов — надо самому проделать ту работу, которую проделали Аввакум, Толстой и Розанов» [36]. Не всякая «раскачка» языка кажется Мирскому удачной. Так, он весьма критически относится к стилистическим экспериментам Е.Замятина и Б.Пильняка, однако преодоление книжного и, особенно, газетно-журнального жаргона и овладение народной языковой стихией составляет, по мнению критика, важнейшую задачу отечественной настоящей и будущей словесности. Критик угадал тенденцию, получившую в двадцатом столетии мощное развитие. Думается, что наиболее яркими наследниками аввакумовской языковой линии народного разговорного языка в литературе стали идейные и творческие антиподы М.Шолохов и А.Солженицын, хотя каждый шел к решению языковой проблемы собственным путем: первый — органичным включением народной лексики в ткань повествования, второй — в результате экспериментирования в области словообразования и использования малоупотребительных забытых слов. Однако, нельзя не упомянуть здесь также и М.Цветаеву, А.Ремизова, А.Платонова, Б.Шергина, М.Пришвина и некоторых представителей деревенской литературы — В.Шукшина. Ф.Абрамова, В.Белова, В.Личутина.
Рассматривая литературные произведения, евразийцы постоянно пытались применить некоторые идеи и подходы, используемые ими при исследовании историософских проблем. Так, например, они полагали, что при выходе из кризисных ситуаций народу и стране не следует опираться на достижения и выводы ближайшего периода истории. Главное и наилучшее средство национального излечения должно сочетать в себе устремленность к поиску новых, будущих форм мироустройства, ростки которых уже заметны в настоящем, и обращение к опыту отдаленных, даже древних периодов истории, особенно тех, что отмечены серьезными религиозно-духовными достижениями. Этот принцип был применим евразийцами и в самом выборе рассматриваемых произведений, и в оценке их роли в литературном процессе. Так, они обращаются к анализу летописей, рассматривая их не только как исторические свидетельства, но и как высокохудожественные тексты, подтверждающие езразийские воззрения о подвижнической природе государственной власти в период Древней Руси и Московского царства и о русском государстве как о Государстве Правды. (С этой точки зрения интересны лекции Н.Трубецкого о древнерусской литературе.) Весьма симптоматичен сам характер их обращения к древним текстам (те же летописи, «Хожение Афанасия Никитина», творения Аввакума) и их положительная, почти восторженная, оценка на фоне весьма скептического отношения евразийцев ко многим произведениям русской литературы ХVIII-ХIХ веков (развивавшейся в тесном взаимодействии с европейской культурой).
VIЕвразийцы рассматривали проблему историзма литературы и вообще соотношение литературы и истории настолько глубоко, серьезно и разносторонне (в этом они безусловно опередили другие эмигрантские течения), что есть необходимость остановиться на этом подробнее. Наиболее целесообразно начать анализ со статьи Н.Трубецкого «Хожения за три моря» Афанасия Никитииа как литературный памятник», не относящейся к жанру критики или эссеистики, но являющейся академической литературоведческой работой. Автор, из всех евразийцев пожалуй наиболее предрасположенный к строго научным изысканиям, стремится реабилитировать роль древнерусской литературы для современного сознания, полного либерального презрения к допетровской эпохе и культуре. Произведения древнерусской литературы, основные списки которой были найдены к этому времени, «открыты», в основном, фактически, внешне, но внутреннего духовного «открытия» и осознания их значения тогда еще не произошло. Можно предположить, что «Хожение...» в какой-то степени имеет смысл рассматривать как некий эзотерический трактат о поиске «иного царства» — «внутренней Индии». Исследование чисто литературной стороны «Хожения...» не закрывает от Н.Трубецкого проблемы русского национального характера, высвечивающегося в колоритной фигуре Афанасия Никитина. Он выступает ярким носителем отечественного национального свойства «всемирной отзывчивости», способным с удивительной тонкостью постигать иную культуру, обычаи и психологию, относиться к чужому бытию с уважением, порой даже с готовностью признать его превосходство и учиться у него. В то же время он обладает не менее удивительной духовной стойкостью и верностью патриотическим и православным идеалам. Но интересна не эта сама по себе известная характеристика русского путешественника, а литературные приемы, примененные А.Никитиным, и позволяющие сделать этот вывод с большей точностью, нежели любые прямые уверения, если бы автор на это пошел бы.
Впервые в практике исследования древнерусской словесности Н.Трубецким был применен при анализе «Хожения ...» формальный метод изучения литературных приемов» [37] (в основном композиции и стилистических особенностей), дающий возможность глубже, чем это удавалось философии прошлого, проникнуть сквозь даль времен в загадочный внутренний мир древнерусского человека. Однако, этот «формальный метод», во многом предваряющий современные структуралистские подходы, отличается от них более одухотворенным содержанием. Поскольку исследователь стремится не просто разложить произведение на составляющие элементы, но и выйти с помощью анализа на глубинные духовные константы и сакральные смыслы русского бытия, он никогда на протяжении исследования не теряет из виду целостную образно-смысловую основу произведения. Внимательное рассмотрение статики и динамики повествования в ее соотношении со статикой и динамикой душевных и духовных переживаний героя приводит Н.Трубецкого к неожиданному выводу — поскольку религиозная жизнь человека, выросшего в условиях традиционной культуры, всегда ритмична и периодична (что связано с его включенностью в ежедневный и годовой литургические циклы), то и «у Афанасия Никитина могла явиться мысль — при написании «Хожения за три моря» использовать повествование о моментах своей религиозной тоски как средство внутреннего членения рассказа о путешествии и о всем виденном и пережитом в далеких странах» [38]. Таким образом, правильная пульсация внутренних духовных переживаний автора повествования (малый литургический цикл), принадлежащего к истинной религиозной традиции (большой литургический цикл), оказывает упорядочивающее влияние на композиционное построение текста. Перед нами литературная версия остро интересовавшего евразийцев вопроса о соотношении индивидуального и сакрального ритма (ведущего в симфонии национальных ритмов) и, шире, о соотношении формы (в данном случае литературной) и содержания (в данном случае духовных переживаний автора); вопроса, выступавшего в историософских евразийских работах как проблема соотношения национального духа и национальной государственной формы.
Интересно, что евразийцы расходились между собой в ответах на вопрос, сформулированный для России еще Вл.Соловьевым: «Каким ты хочешь быть Востоком?..» и по-разному оценивали значение духовно-исторических связей с туранским и индийским Востоком [39]. И если Л.Карсавин с его идеей «потенциального православия» нехристианских народов, П.Савицкий, В.Никитин и, особенно, Вс.Ник.Иванов, который во многом разделял идеи Н.К.Рериха, отмечали важность российско-индийского исторического и культурного взаимодействия, то Н.Трубецкой представлял антииндийскую ветвь в евразийстве. Видимо, это предопределило его достаточно спорную оценку произведения Афанасия Никитина как жанр паломничества «в поганую землю». Но тот же Рерих, неоднократно с восторгом цитировавший А.Никитина, видел в «Хожении...» как раз проявление русско-индийского духовного магнетизма.
Евразийский анализ позволяет сделать заключение, что в древний период русской истории литературно одаренному человеку достаточно находиться в потоке Традиции, и тогда не возникало проблем с выбором художественной формы, рождающейся в высшей степени естественно и органично. Иное дело — кризисные, поворотные, моменты историй, когда Традиция начинает разрушаться, и литератор, который придерживается именно старых эстетических канонов, рискует оказаться непонятым. Именно этой проблеме посвящена статья Д.П.Святополка-Мирского «О московской литературе и протопопе Аввакуме». Автор справедливо отмечает, что Аввакум и его сподвижники Неронов и Вонифатьев «были правщиками книг и обличителями господствующих настроений, восстановителями добрых и обличителями дурных вкоренившихся обычаев, прежде чем стали на защиту старого против исправлений и новшеств Никона» [40]. Статья опровергает ходульное мнение об Аввакуме как о законченном ретрограде, способном лишь отстаивать прошлое, и выходит на проблему истинного традиционализма, который всегда почитает «начало обновления» и «начало охранения». Аввакум предстает создателем нового литературного языка и нового «языкотворческого стиля», сумевшего ввести в славянский книжный язык московские живые разговорные элементы. Подобный синтез выглядит у него естественным, органичным, лишенным намеренной стилизации в отличие от многих других, более поздних, попыток вроде эксперимента «натуральной школы» в ХIХ веке, когда живая «народная» речь, в основном в диалоговой форме, «вкраплялась» в литературу искусственно. Парадокс, открытый евразийцами, состоит в том, что подлинный охранитель сути духовной Традиции не может выполнять свою миссию в переходную эпоху, не обновляя литературную форму изложения, или, по крайней мере, языковую сферу.
Иначе реагирует на предкризисные и кризисные периоды истории литература, отошедшая от национальных основ и религиозно-духовных традиций. Статья Д.П.Святополка-Мирского «Веяние смерти в предреволюционной литературе» интересна не только своей попыткой «рассчитаться с «европейским» соблазном русской литературы и анализом феномена «исторической смерти», назревавшей в культурной формаций петербургской России и отраженной словесностью, но и стремлением на литературном материале утвердить евразийскую идею разделенности отечественной культуры на два этажа, нижний из которых занимали «чеховские либералы», а верхний — «утонченные декадентские дворяне». В точности так же, как непримиримые враги — царская бюрократия и революционеры — с двух сторон рыли яму государственному монархическому строю, два противоположных лагеря — упомянутые «либералы» и «дворяне» — синхронно подтачивали древо национальной культуры и духовности. В результате большинство литераторов, даже лучшие из них, в силу разрыва с верой и национальной почвой не смогли противостоять этому «веянию смерти» — естественной реакции чуткого художественного сознания на тяжкий исторический недуг западопоклонничества. П.Сувчинский дал следующую картину предреволюционной культурной жизни: «Жизнь (...) начала питать те течения и настроения, которые рвали в сторону или же «подрывали основы». Это создавало ту гнетущую атмосферу безысходности и озлобления, скуки и страха, в которой сложились самые мрачные и оправданные пророчества о русском будущем; в этой же атмосфере зародились Чехов, Андреев и Блок, «Конь бледный» Ропшина и «Петербург» Белого (...). Насколько помрачено было русское предреволюционное патриотическое сознание, можно судить не только по злобствованию и предательству открытых врагов России — вырождение подлинного чувства родины сказалось и в русском творчестве (ярче всего у Блока и Белого), как будто исполненном любви и страсти к России, но в котором надвигающаяся катастрофа, проводимые бедствия и ужасы становились имманентными исключительно личной судьбе каждого автора и вызывали к себе с их стороны мучительную «радость страдания», почти садистические рефлексии, эгоистическую жажду гибели и распада, а не волевое противление грядущему бедствию» [41].
Преодоление кризиса и раскола русской культуры евразийцы видели в возрождении начал патриотизма и героизма, соединяющих два этажа в единое высокое целое. Образцами и примерами подобного патриотического героизма они считали творческие достижения Н.Гумилева, Б.Пастернака и М.Цветаевой.
Куда более перспективным и спасительным для словесности представлялся евразийцам путь Н.Лескова, одного из самых неевропейских, по их мнению, русских писателей в самом европейском ХIХ веке, сумевшего противостоять в творчестве тенденциям своей эпохи. Тайну лесковской уникальности П.Сувчинский в своей статье «Знамение былого» усматривает в его народности, являющей собой органический сплав художественных и духовных исканий. Там, где писатель уступал веку (прежде всего в своих романах, к наиболее неудачным, среди которых критик, на наш взгляд, не совсем основательно отнес «Некуда», «На ножах», «Обойденные»), он терпел некоторое художественное поражение. Там, где он оставался верен традиционным национальным основам и стремился развить их через языковое и стилистическое творчество, его ждала большая писательская удача. Критик приходит к выводу, что «истинная мистика и магия» лесковских произведений — в соединении реализма, со всей его яркой конкретностью, и чудесной «сказочности», восходящей к тому единству духа и плоти, которым отмечены жития и апокрифы, и которое критик называет «иконностью». Народность Н.Лескова в евразийском видении проявляется в «напряженной действительности» и «событийности» его произведений, отвечающей «напряженной действенности» русского национального характера и русской истории, насыщенной глубокой «событийностью». Лесковские легендарные характеры — это одновременно исторические и неисторические, «вечные» психологические типы, в своем фанатизме и даже изуверстве наполненные волей к жизни, без которой в принципе невозможно сделать усилие души и прийти к единственно спасительному русскому пути — «подвигу» и «праведности». «Праведность» творчества писателя, глубоко народного как в смысле тяготения к национальной языковой импровизации, так и в смысле воссоздаваемых им неистовых и цельных народных характеров, есть выражение праведности России, величественного «Государства Правды», рассвет которого евразийцы считали близким и неизбежным. В исканиях Н.Лескова, вплотную подошедшего к освоению опыта житийной и апокрифической литературы, критик видит тот спасительный выход, в направлении которого должна постепенно двигаться отечественная литература. Линия Н.С.Лескова, глубоко бытийная, онтологическая и магистральная, по сути противоположная бытописательской периферийной линии А.Н.Островского, М.Е.Салтыкова-Щедрина, А.Ф.Писемского, П.И.Мельникова-Печерского, в XX веке практически обрывается. Евразийцы ститали, что один лишь А.М.Ремизов, и то, в основном, внешне, в какой-то мере восстановил лесковскую традицию.
Один из центральных, волнующих евразийцев вопросов — художническое переживание самой близкой к ним и самой страшной революции. Статья П.Сувчинского о А.Блоке «Типы творчества» важна своей попыткой вскрыть взаимоотношения личности художника и той исторической стихии, которую он пропускает через себя в произведениях, и от жестоких ударов которой ему порой приходится защищаться. Не менее интересна также проводимая параллель между скачущим Медным Всадником А.Пушкина и летящей Степной Кобылицей А.Блока как образами «русской стихийной революции», надвигающейся на страну. Хотя в первом образе речь идет о революции, проводимой сверху, а во втором — больше снизу, оба эти вихря способны разрушить хрупкий внутренний мир поэта. Потому так важна крепость творческой воли художника. И если А.Пушкин, переживавший драматические события невского наводнения и вообще Петровского периода по прошествии длительного времени, сумел противостоять разрушительному вихрю истории и как бы заклясть его («Красуйся ж град Петров и стой неколебимо, как Россия. Да примирится же с тобой и побежденная стихия ...»), то А.Блок, которого трагедия коснулась лично, не устоял и художнически, изменив в последней поэме высшей божественной правде и гармонии. Удивительно, что скептически оценивая перспективы линии А.Блока в отечественной литературе по причине слишком сильной внутренней принадлежности поэта к породившей его близкой больной эпохе, евразийцы не увидели в нем своего союзника и нигде всерьез не проанализировали его поэтический манифест евразийского единения — «Скифы». Гораздо удачнее это сделал оппонент евразийства Георгий Федотов в статье «На поле Куликовом», вышедшей в парижских «Современных записках» в 1927 году.
Евразийцы не создали цельной эстетики, философии, искусства и литературы. Можно говорить лишь о контурах такой философии. Но они наметили пути, открывающие в известном предмете новые, доселе неизвестные грани, и позволяющие подойти к евразийскому измерению русской литературы. Евразийское измерение русской литературы — это не просто тема Азии, отраженная в многонациональном творчестве отечественных писателей. Это еще идея Азии в ее отношении к идее Европы, выступающая как новая перспектива для России, идея, о значении которой говорили такие столпы русской литературы и мысли как А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, П.Я.Чаадаев, Н.Я.Данилевский, Ф.М.Достоевский, К.Н.Леонтьев и др. Следует подчеркнуть, что идея Азии не в философии и даже не в историософии, а именно в русской литературе отнюдь ни означает простой декларации исторической, культурно-психологической и духовной близости с Востоком, а составляет одну из основ самой художественной ткани отечественной словесности. Литературное выражение идеи Азии связано и с художественным отражением взаимодействия русской и восточной стихий в реальной истории России, и с художественным воплощением русского своеобразия, несводимого в чистом виде ни к европейскому, ни к азиатскому началу, и с особыми художественными принципами проникновения во внутренний мир Азии и восточной души. Относительно последнего следует сказать отдельно.
Дар проникновения в таинственную страну Востока (по сути дела выражавший «всемирную отзывчивость» национального гения в литературе) с особой силой проявился в русской поэзии (прежде всего у А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова) не только в смысле блестящего воссоздания восточного колорита при описании природы или бытовой заморской экзотики, но и в отражении глубин исторического и духовного бытия народов Азии. Так А.С.Пушкин, заслуживающий определения «все-азиат» (а не только «все-европеец»), проявил свою поистине «всемирную отзывчивость», выступив одновременно и как певец Кавказа, и как путешественник (пусть и не состоявшийся) в Китай и Тибет, и как заинтересованный почитатель Индии (ученые-востоковеды утверждают, что упоминания об этой стране встречаются в произведениях поэта 26 раз, не считая историко-географических материалов альманаха «Северные цветы» и «Литературной газеты»), и как тонкий ценитель арабской культуры, хорошо знакомый с мусульманской историей. Востоковед М.С.Лазарев, проанализировав геополитический подтекст стихотворения «Стамбул гяуры нынче славят», обнаружил глубокую осведомленность поэта в области конкретных государственных проблем Османской империи того времени. И, конечно, нельзя оставить без внимания его «Памятник», где по сути утверждается евразийский характер будущей российской культуры, единой в своем почитании лучших достижений прошлого. Сходные суждения могут быть высказаны и о русской прозе, так или иначе, касавшейся темы Азии — о произведениях Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого, И.А.Бунина, А.И.Куприна, М.М.Пришвина, В.Я.Шишкова, Б.А.Пильняка.
Важно отметить полное отсутствие в русской литературе комплекса «цивилизованного превосходства» по отношению к азиатским народам, свойственного западной культуре и нашедшей отражение в европейской литературе XIX-ХХ века. Азиатская культура никогда не изображалась в русской литературе как некий сторонний объект, но всегда выступала как равноправный субъект. На материале ряда произведений В.В.Кожинов убедительно показал, что «атмосфера безусловного равенства и братства воплощена во всех творениях русской литературы, воссоздающих образы народов Азии — и в лермонтовском «Герое нашего времени», и в кавказских повестях Л.Н.Толстого (в «Хаджи-Мурате» даже как бы переходит границу равенства, выдвигая на первый план черты превосходства горцев над русскими), и в поразительном по силе, явно недооцененном, повествовании Н.Лескова «На краю света» (о Якутии)
[42]. Во всяком случае встречающиеся во многих произведениях русской литературы положительные образы азиатов, даже в тех случаях, когда перед нами герои, борющиеся за свою независимость, а также положительные образы тех выходцев из Азии, которые связали свою жизнь со служением Белому Царю — все это яркое свидетельство евразийского духа отечественной словесности, проявление ее многонационального всечеловеческого характера.
Подходы, намечаемые евразийской эстетикой позволяют рассмотреть вопрос о взаимодействии литературы и истории в плане соотношения влияний Востока и Запада на литературный процесс. Хотя в литературе выделить объективные критерии расцвета и упадка еще труднее, нежели в истории (где П.Савицкий сделал серьезную попытку), наверное было бы интересно понять, как влияли на словесность восточные и западные «уклоны» русской истории. Конечно, очевидно, что влияние в данном случае, даже если его удастся обнаружить, окажется гораздо сложнее и опосредованнее зримых исторических сдвигов, но все же важно уловить, насколько реально его воздействие и какое направление окажется наиболее перспективным для русского слова? Не менее интересна и проблема соотношения принципа «оседлости» («леса») и принципа «кочевничества» («степи») не только в истории (как это убедительно показали исследования Г.Вернадского), но и в литературе. Принципиальную возможность постановки данной проблемы и реальное присутствие двух борющихся принципов подтверждается не только двумя типами названий художественных произведений и основных образов (чеховская «Степь», блоковская «Степная кобылица» или «Русский лес» Л.Леонова, «Отец-лес» А.Кима), но и двумя национальными типами, нашедшими свое художественное воплощение. В самом деле тип «оседлого» человека и тип «кочевника» (не только во внешнем и прямом смысле, но и во внутреннем духовном плане) постоянно присутствует в русское литературе, нередко выражая противоположные нравственно-психологические качества и создавая живительную основу конфликта в произведении. Конечно, едва ли можно считать какой-либо из данных двух типов «лучше или хуже» другого в этическом и, тем более, в эстетическом смысле или делать далеко идущие выводы о его исторической перспективности или обреченности, хотя такие попытки делались представителями двух противоположных идеологий — западнической и почвенической. В художественной реальности, как и в отражаемой в ней действительности, все сложнее: каждый из двух рассмотренных типов имеет по меньшей мере два уровня — высший и низший. Например, художественно преломленный принцип «оседлости» может на высшем уровне быть представлен образом человека труда, укорененного в национальной традиции. Если речь идет о земном труде и привязанности к земной тверди, это крестьянин, положительный герой многих произведений русской классической литературы. Если же речь идет о духовном труде, связанном с внутренней опорой человека на твердь небесную, то тогда это православный христианин, носитель идеала «русской святости», к ярким художественным примерам которой можно отнести образ старца Зосимы или целую галерею лесковских героев. В точности также принцип «кочевничества» в своем высшем проявлении выражают типы «очарованных странников», иноков, искателей правды, т.е. всех духовно подвижных и стремящихся к совершенствованию людей (например, многие герои Льва Толстого или же Николая Лескова). В низшем проявлении — это образ человека, разорвавшего связь с национальной традицией и поддавшегося наиболее темным и разрушительным течениям исторического потока (Верховенский или Челкаш).
Если оторвать взор от литературы и обратиться к отечественной истории, то не окажется ли справедливым соображение, что среди прочих конфликтов, разрывавших тело и душу Империи, имел место конфликт между двумя типами национальной психологии — «кочевнической» (преимущественно революционной и «красной») и «оседлой» (в основном крестьянской и «белой»)? Конфликт этот, в мирное время разворачивавшийся на университетской кафедре или газетно-журнальной трибуне, был локализованным и ограничивался зоной «верхнего этажа» национальной культуры. «Низший этаж» культуры сохранял спасительную стабильность. В предреволюционный и революционный период борьба перешла на «низший этаж» и выплеснулась на улицу. Победили «красные», представители наиболее чуждого России направления интернациональной марксистской «кочевнической» психологии низшего типа. Подобная психология отрицала самоценное знание российской культуры и относилась к ней как к средству для достижения своих целей, связанных с экспериментом мировой революции. Однако необходимость прочного удержания власти и глубинная логика управления гигантским евразийским пространством требовала сменить курс. «Сменовеховцами» оказались не только эмигрантские философы, но и руководители советского государства. Победители, как это часто случалось в истории, были вынуждены во многом принять законы побежденной территорий, и потому интернациональный большевизм начал все больше принимать национальную окраску, ярким примером которой стал немыслимый для «Манифеста Коммунистической партии» лозунг «любви к социалистическому отечеству». Интернациональное «кочевничество» делало медленные шаги навстречу коренной «оседлости» и не заметило, как очутилось в ее объятиях. Финалом такого сближения стало рождение «командно-административной системы» и охранительной партийной идеологии, а также формирование нового психологического типа являющего собой апофеоз извращенной «оседлости» — «коммунистического Обломова».
И хотя причины воцарения застойной идеологии и психологии сложнее, чем это сегодня принято представлять, и связаны со многими неустранимыми факторами, в частности с неизбежной усталостью народа от полувековых экспериментов, все равно бунт против неподвижного догматизма был неотвратим и медленно зрел в недрах самой системы. Не исключено, что «бомбой замедленного действия», взорвавшей стану, оказалась именно идеология, сдерживающая естественную «смену вех» и психологически разложившая оба типа. И как можно исключить мысль, что сегодняшняя смута является следствием очередного витка борьбы между «кочевниками» новой формации и представителями «оседло-охранительной» психологии?! В известном смысле вся отечественная история предстает как чередование двух рассматриваемых тенденций, что блестяще показано в работах Г.Вернадского. Конечно, было бы упрощением сводить движущие силы российской истории к борьбе только этих двух факторов, однако, не учитывать их мощного влияния, по-видимому, невозможно. Очевидно также, что конфликт двух данных тенденций, выступающих в обновленной форме и несущих в себе принципиально иное содержание, нежели в начале века, не закончился и, по признанию обеих сторон, грозит завершиться национальной катастрофой. Революционная логика развития страны предполагает установку у борющихся сторон на полную и окончательную победу какого-то одного из принципов, эволюционная логика зовет к примирению, основанному на гармоническом балансе между двумя тенденциями. Речь не идет об их полном слиянии — опасной утопии, осуществление которой было бы невозможно без утраты национальной идентичности и привело бы к полной остановке развития.
Однако, едва ли оспорима мысль о том, что примирение двух противоположных полюсов отвечает сегодняшним интересам России, ибо помогает переходу от все еще не закончившейся революционной фазы развития к эволюционной и соответствует евразийской идее преодоления революции через воссоединение «белого» и «красного» периода истории. Пожалуй, именно евразийцы среди всех представителей русской исторической мысли зарубежья выразили идею примирения «белого» и «красного» начала наиболее ярко. Данные тенденции существуют и проявляются не в абстрактном историческом пространстве, но в реальной человеческой психологии, в людях, участвующих в истории и ее творящих. В литературе, отражающий действительность в разные периоды в зависимости от господствующих идей, умонастроений, вкусов, наконец, от конъюнктуры, положительными героями считались наиболее яркие выразители то одного, то другого типа. Конечно, были и «вечные» типы, неподвластные никакой конъюнктуре. Однако, ни созданные русскими писателями в прошлом и настоящем образы идеальных «кочевников», ни образы идеальных «оседлых» людей в силу психологической неполноты подобных персонажей не удовлетворяли отечественную словесность в ее стремлении к грандиозной цели — созданию убедительного образа совершенного положительного героя. Не ангела, но реального человека, гармонично совмещающего в себе «кочевничество» и «оседлость», «диалектику души» и высоконравственное «охранение». Наверное, главная проблема в том, что современная жизнь дает для этой художественной мечты слишком мало материала. Остается надеяться, что труднейший период истории, переживаемый Россией, поможет кристаллизации таких характеров, а художники, в свою очередь, попытаются уловить этот, пока еще зыбкий и всеми ожидаемый, образ, адекватно воплотить его и, тем самым, ускорить его окончательное воплощение в истории и жизни.
И, наконец, еще одну грань евразийского измерения русской литературы (кстати, довольно тесно связанную со стихиями «оседлости» и «кочевничества») составляет то архетипическое национальное свойство, которое можно было бы назвать континентальным духом. Этот континентальный дух отразился в литературе в особом образе российского пространства с его бесконечностью и открытостью и в особом образе художественного времени, тяготеющего к календарной цикличности и почти литургически строгой периодичности (достаточно вспомнить хотя бы «Лето Господне» И.Шмелева), и в то же время эсхатологически сжимающегося и уплотняющегося перед тем, как исчезнуть в вечности (блоковское «Возмездие» или многие образы тютчевской лирики»). Сама огромность образа пространства в русской литературе как бы отражает огромность русской души и широту национального характера, нашедшие воплощение в «русской идее», выходящей по словам Ю.Мамлеева «за рамки этого мира»
[43]. С русской идеей (в ее эсхатологическом измерении, по определению Н.Бердяева) связан и присущий русской литературе дар переживания времени, проявляющийся как склонность ставить «последние» конечные вопросы и, в то же время, беспрерывно вопрошать о бесконечном, отражая ощущение того, что конца не имеет. Данное свойство отечественной словесности (стремление к бесконечности и вечности) обычно объединяет ее созвучием философии космизма, и это во многом верно, однако, поскольку российская небесная твердь всегда была сопряжена с твердью земной, с идеей земли и почвы, то не будет ли справедливее и точнее предположить, что творчество многих русских писателей, а еще больше поэтов (таких как, например, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, А.А.Блок, М.А.Волошин, Н.С.Гумилев, М.И.Цветаева, С.А.Есенин, Б.Л.Пастернак, Н.А.Клюев, П.Н.Васильев, Н.А.Заболоцкий) пронизано не просто космическим мироощущением, но и евразийским континентальным духом?
VII
Евразийство как организованное движение давно распалось, но его подходы, идеи, образы живы и сегодня периодически возникают в культурном пространстве-времени, порой выходя на поверхность самым неожиданным образом. Ожидает своего часа и заслуживает отдельного разговора тема мистического евразийства, представленного в отечественной культуре великими духовидцами и патриотами России Н.К. и Е.И.Рерихами, и сосредоточенного в их творческом наследии и, прежде всего, в учении Живой Этики. (Кстати, сами Рерихи изучали и даже цитировали евразийские труды и имели прямые пересечения с некоторыми из евразийцев, прежде всего, с П.Савицким и Г.Вернадским). Евразийские мотивы можно обнаружить в прозе Ивана Ефремова, Анатолия Кима, Тимура Зульфикарова, Тимура Пулатова, в поэзии Юрия Кузнецова и Евгения Курдакова, в исторических трудах Льва Гумилева. Да и А.Солженицин с его последовательной критикой духовной пресыщенности Запада, а также с идеей сосредоточения России на внутренних суверенно-национальных задачах и вытекающей отсюда необходимости освоения русского северо-востока, также отчасти близок евразийским воззрениям при всей своей страстной убежденности в том, что пути бывших азиатских республик далеки от российских путей, конечно, не в оценке прошлого, но в плане подхода к будущему.
Большое распространение евразийские мысли получили сегодня в современной политике, политологии и политической публицистике России. Интересно, что их используют в своих программах общественно-политические движения и партии диаметрально противоположной ориентации — от радикально-демократической до радикально-правой. В настоящий момент в нашей стране существует несколько вариантов евразийской политической идеологии различных оттенков: либеральное евразийство, черпающее свое вдохновение в утопических идеях позднего А.Сахарова и конкретных геополитических проектах Н.Назарбаева; евразийство неокоммунистического толка; «континентальный евразийский эзотеризм», политические идеалы которого близки к идеалам бельгийского геополитика Жана Тириара (А.Дугин, В.Штепа и др.); евразийство исламического толка, видящего в исламе «последний шанс для России» (Г.Джемаль). Конечно, все это весьма далеко от того, что задумывалось П.Савицким, Л.Карсавиным и Н.Трубецким, хотя среди перечисленных модификаций евразийской идеологии встречается немало интересных и плодотворных направлений. Особенно значима попытка современных русских «новых правых» раскрыть метафизическое измерение евразийства и постичь его сакральные исторические, географические и духовные корни, однако ее в значительной степени «портит» подчеркнутое тевтонство и апологетика ряда мыслителей, близких к идеям Третьего Рейха.
Сами евразийцы — родоначальники движения — относились к идеологии Третьего Рейха совершенно иначе. Резко отрицательно оценивал ее П.Савицкий, а Н.Трубецкой, еще до того, как лично пострадал от фашизма, предупреждал о вредоносности романо-германского «прогрессизма» и культурной экспансии.
Политические движения и партии патриотического плана, как правило, относятся к евразийству, в лучшем случае, с большим подозрением, а, в худшем — с открытой неприязнью. Они не без оснований опасаются, что конкретное воплощение евразийских идей на практике содержит в себе опасность растворения России и русских, переживающих сегодня тяжелый кризис, в мощных чуждых влияниях. Потому перед новой вырабатываемой идеологией стоит сегодня задача совместить евразийское начало с национальным, имперское — с республиканским, что позволит русскому народу найти свое место в Евразии.
Некоторые из патриотически настроенных политиков, политологов и публицистов (К.Мяло, Н.Нарочницкая, М.Назаров и др.) приводят многочисленные и, порой, яркие доказательства того, что принятие доктрины евразийства в сегодняшней сложной геополитической ситуации будет неизбежно означать подыгрывание исламскому сепаратизму, ослаблению России и, особенно, его русского ядра, что в перспективе может привести к распаду страны. Несмотря на то, что определенные силы действительно будут пытаться использовать (и уже используют) самые разнообразные варианты евразийской доктрины в качестве инструмента геополитического разрушения государства, нельзя вместе с водой выплескивать и ребенка. Истинное евразийство всегда за сильную единую и неделимую Россию, где русский народ играет роль станового хребта, скрепляющего тело огромной Евразии, населенной множеством этносов и народов. Историческая интуиция поэтов порой превосходит научные выкладки и расчеты. Строчки замечательного отечественного поэта Ю.Кузнецова: «пусть завяжутся русским узлом эти кручи и бездны Востока» как раз выражают именно эту глубинную тенденцию русской истории, пока еще, увы, не ставшую действительностью.
Многие опасаются, что само введение нового термина «Евразия» может считаться первым шагом к упразднению России, начинающемуся с внешне безобидной перемены имени. Думается, что подобные страхи беспочвенны: введение и употребление данного термина рядом со словом Россия через дефис (Россия-Евразия) еще не означает механического уравнивания государства и континента (Россия=Евразия). От того, что русский человек будет назван евразийцем, он не перестанет быть русским, так же как англичанин не перестает быть англичанином, если его назвать европейцем, и китаец не прекратит свое китайское бытие, если будет отнесен к азиатам. Как бы мы ни были в прошлом близки с доброй старой Европой в плане родства культурных традиций, и как нас не втискивают в настоящую новую Европу в плане породнения с ее цивилизацией, мы все же не являемся и никогда не будем являться чистыми европейцами. Как, впрочем, и азиатами тоже. Россия и есть Евразия, только не вся Евразия, а срединная. Поэтому термин «Евразия» не растворяет, а, наоборот, подчеркивает географическую, геополитическую, историческую, государственную и культурно-духовную особость, самостоятельность и уникальность России как национальной личности. А если повести речь о континентальном измерении евразийства, о нескольких древних империях, которые существовали на территории этого огромного пространства, и по отношению к которым Российская Империя является внутренней преемницей, то Евразия в определенном смысле может предстать даже нуменом России, ее сокровенной идеей и архетипом. Очевидно, что Евразия (в широком смысле) и Россия — пересекающиеся, но отнюдь не взаимозаменяемые понятия. Евразийский угол зрения дает возможность увидеть русско-российскую неповторимость в контексте мировой географии, истории, экономики, геополитики и культуры. Введение понятия Срединной Евразии — это по сути напоминание русским об устойчивости континентальной почвы под ногами, границы которой ограждают это место от поглощения как Востоком, так и Западом. Евразия — это заданное природными, историческими и экономическими особенностями природно-цивилизационное тело народа и государства. Введение понятия Евразии — это и осознание пределов собственного места для существования и развития народа и государства («месторазвитие»), задающего материальные условия для реализации национальной цели во всех ее аспектах. Речь может идти не только о природном географическом теле государства, но и о преобразованной на данном ландшафте природе, то есть о теле евразийской цивилизации. Ландшафт Евразии, в большей степени, нежели ландшафт Западной Европы, сохранивший возможность для построения своеобразной цивилизации (отличной от американско-европейской), служит основой для движения по, так называемому, «третьему пути», который выбрали некоторые азиатские страны и который позволяет соединить совершенные сверхвысокие технологии с опорой на национальные традиции каждой страны.
Можно расширить применяемое евразийцами название Россия-Евразия, превратив его из диады в более соответствующую русскому психическому архетипу триаду — Русь (причем, Святая Русь) — Россия — Евразия. Если Евразия — это плоть, то Россия — это та личность и душа, которая живет в границах огромного евразийского тела и хранит содержание национальной памяти, исторического самосознания, достижений культуры, искусства и науки. Вершину российской национальной личности, ее сокровенное ядро, или дух, составляет Святая Русь — идеальный образ России, ее сакральный небесный архетип. Несмотря на жесточайшие испытания ХХ века, огонь Святой Руси продолжает гореть. Чтобы этот огонь разгорелся сильнее, он должен получить новый импульс и принять новые, соответствующие современной жизни, формы. Вполне возможно, что принятие евразийской доктрины может создать условия для того, чтобы огонь русской духовности стал еще ярче.
Сегодня идея национального примирения между красными и белыми (хотя с трудом можно понять, кого в наши дни следует отнести к белым) провозглашена в виде государственной программы, но с ее реальным воплощением возникают большие проблемы и не в последнюю очередь по причине слабой проработанности общей объединительной идеи. Полезно вспомнить, что с подобной идеей национального примирения и преодоления революции в 20-30 годы выступали евразийцы, разработавшие ее подробно и детально. Конечно, времени утекло немало, и сложившаяся историческая ситуация не позволяет применить эти разработки в чистом виде без всяких поправок на сегодняшний день. Однако, многое остается актуальным до сих пор, и богатое наследие этого весьма реалистического течения отечественной мысли остается невостребованным. Хочется верить, что найдутся люди с подлинно государственным мышлением, которые могут не только оценить евразийскую теорию по достоинству, но и сумеют реализовать эти идеи на практике.
Конечно, нельзя считать евразийство неким универсальным учением, дающим ответы на все вопросы жизни. Но даже если в какой-то степени согласиться с Г.Флоровским, что в евразийстве преобладает «правда вопросов» над «правдой ответов», то и в этом случае остается удивляться, насколько верно и точно эти вопросы поставлены. Именно это позволяет надеяться, что значение евразийства как живой национальной идеологии в будущем будет все больше возрастать.
Сергей Ключников
[1] Ю.Панасенко, А.Шамаро «Нартекс. Ориентация храма по странам света.» — «Наука и религия», 1992, №8 с.62.
[2] Глеб Струве «Русская литература в изгнании». Париж, «Имка-Пресс», 1984, с.46.
[3] А.А.Кизеветтер «Евразийство» (1926). — «Философские науки», 1991, №12, с.123.
[4] Н.А.Бердяев «Утопический этатизм евразийцев». — Н.А.Бердяев «О русской философии». Свердловск, Изд-во Уральского университета, 1991, с.198.
[5] Строго говоря, усиление интереса к Азии и стремление понять основы Восточной культуры, философии, искусства и уклада жизни, начиная с конца ХVIII века стало одной из существенных культурных тенденций Запада. И.Гердер, И.Гёте, И.Шиллер, романтики, А.Шопенгауэр и многие другие деятели европейской культуры отдали дань этому увлечению.
[6] Л.П.Карсавин «Запад, Восток и русская идея». Петроград, 1922, с.52.
[7] Л.П.Карсавин «Запад, Восток и русская идея». Петроград, 1922, с.??.
[8] «К юбилею Н.С.Трубецкого». — «Вестник МГУ: филология», 1990, №4, с.4.
[9] Вместе с тем нельзя переоценивать азиатскую составляющую евразийства, взявшего себе в название слово, где корень «евро» стоит все же на первом месте, и глубоко ценившего достижения западной культуры.
[10] С.С.Хоружий «Карсавин и де Местр» — «Вопросы философии», 1989, №3, с.82.
[11] Л.П.Карсавин «Феноменология революции» — «Евразийский временник», кн. V. Париж, 1927, с.41.
[12] Н.С.Трубецкой «Мы и другие» — «Евразийский временник», кн.IV. Париж, 1923, с.77.
[13] Л.Стрельцов «Евразийская хроника», 1927. Париж, вып. VII, с.5.
[14] П.П.Сувчинский «К преодолению революции». — «Евразийский временник», кн. III. Париж, 1923, с.36.
[15] И.Кудрова «Версты, дали...». М., «Советская Россия», с.337.
[16] Имена главных «виртуозов», осуществлявших общее руководство операцией «Трест», занесены в «компьютер истории» — Дзержинский, Менжинский, Артузов.
[17] И.Кудрова «Версты, дали...». М., «Советская Россия», с.335.
[18] Г.Струве «Русская литература в изгнании». Париж, 1964, с.75.
[19] Н.С.Трубецкой до конца жизни выступал против подобного поворота движения.
[20] Ю.Коваленко «Советские чекисты и русские эмигранты» — «Известия», 1991, №61, 13 марта.
[21] П.Н.Савицкий «Единство мироздания» — «Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов.» М., 1922, с.174.
[22] П.Н.Савицкий «Единство мироздания» — «Евразия. Исторические взгляды русских эмигрантов.» М., 1922, с.17.
[23] В.М.Хачатурян «Историософия евразийства» — «Евразия. Исторические воззрения русских эмигрантов.» М., 1992, с.45.
[24] А.Н.Зелинский «Рыцарь культуры» — Ю.Н.Рерих «Звериный стиль у кочевников северного Тибета» М., 1992, с.10-11.
[25] О.Босс «Учение евразийцев». — «Начала». Религиозно-философский журнал, 1992, №4, с.94.
[26] В.М.Хачатурян «Культура Евразии: этнос и геополитика» — «Евразия, исторические взгляды русских эмигрантов» М.,1992, с.95.
[27] П.Н.Савицкий «Единство мироздания» — «Евразийство. Исторические взгляды русских эмигрантов» М., 1992, с.174.
[28] Характерно, что ученые И.Савкин и В.Козловский в статье «Евразийское будущее России» указывают, что «завороженность будущим, по крайней мере, некоторых евразийских теоретиков, дала повод говорить о специфическом «футуризме» евразийцев («Ступени». Философский журнал, 1992, №2, с.87.).
[29] Несмотря на критическое отношение ко многим проявлениям романо-германской культуры и провозглашенную идею «Исхода к Востоку», культура Запада (как древняя, так и новейшая) постоянно интересовала евразийцев, публиковавших статьи, рецензии, обзоры, посвященные таким фигурам, как Сократ, Макс Шелер, Мартин Хайдеггер. Во всяком случае, евразийская рецензия в «Верстах» о фундаментальном труде последнего «Бытие и Время» была едва ли не первым откликом в среде русской эмиграции.
[30] П.П.Сувчинский Частное письмо к Ирме Кудровой (1978). И. Кудрова «Версты, дали...» М., «Советская Россия», с.123.
[31] Г.Струве «Русская литература в изгнании». Париж, «Имка-Пресс», 1984, с.75.
[32] Trubetzkoy’s N.C.Letters and Notes The Hague. Paris, 1975, p.21-22.
[33] Г.Струве «Русская литература в изгнании». Париж, «Имка-Пресс», 1989, с.45.
[34] П.Н.Сувчинский «Знамения былого» (о Лескове) — «На путях. Утверждение евразийцев.» — «Евразийский временник» Берлин, «Геликон», 1922, с.135.
[35] П.Н.Сувчинский «Знамение былого» (о Лескове) - «На путях. Утверждение евразийцев.» — «Евразийский временник» Берлин, «Геликон», 1922, с.141.
[36] Д.С.Святополк-Мирский «О московской литературе и протопопе Аввакуме» — «Евразийский временник», кн. IV. Берлин, 1925, с.348.
[37] Н.С.Трубецкой «Хожение за три моря» Афанасия Никитина как литературный памятник» (1926) — «Семиотика» М., «Радуга», 198З, с.438.
[38] Н.С.Трубецкой «Хожение за три моря» Афанасия Никитина как литературный памятник» (1926) — «Семиотика» М., «Радуга», 198З, с.454.
[39] Многие современные неоевразийцы, наверное, переформулировали бы этот вопрос примерно так: «Гиперборея или Туран?»
[40] Д.П.Святополк-Мирский «О московской литературе и протопопе Аввакуме» — «Евразийский временник», кн. IV. Берлин, 1925, с.342.
[41] П.П.Сувчинский «К преодолению революции» — «Евразийский временник», кн. III. Берлин, 1923, с.43-44.
[42] В.В.Кожинов «Размышления о русской литературе» М., «Современник», 1991, с.53.
[43] Ю.Мамлеев «Философия русской патриотической лирики» — «Континент Россия», вып.