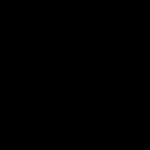Восточная ориентация русской культуры
Дар проникновения в таинственную страну Востока (по сути дела выражавший «всемирную отзывчивость» национального гения в литературе) с особой силой проявился в русской поэзии (прежде всего у А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова) не только в смысле блестящего воссоздания восточного колорита при описании природы или бытовой заморской экзотики, но и в отражении глубин исторического и духовного бытия народов Азии. Так А.С.Пушкин, заслуживающий определения «все-азиат» (а не только «все-европеец»), проявил свою поистине «всемирную отзывчивость», выступив одновременно и как певец Кавказа, и как путешественник (пусть и не состоявшийся) в Китай и Тибет, и как заинтересованный почитатель Индии (ученые-востоковеды утверждают, что упоминания об этой стране встречаются в произведениях поэта 26 раз, не считая историко-географических материалов альманаха «Северные цветы» и «Литературной газеты»), и как тонкий ценитель арабской культуры, хорошо знакомый с мусульманской историей. Востоковед М.С.Лазарев, проанализировав геополитический подтекст стихотворения «Стамбул гяуры нынче славят», обнаружил глубокую осведомленность поэта в области конкретных государственных проблем Османской империи того времени. И, конечно, нельзя оставить без внимания его «Памятник», где по сути утверждается евразийский характер будущей российской культуры, единой в своем почитании лучших достижений прошлого. Сходные суждения могут быть высказаны и о русской прозе, так или иначе, касавшейся темы Азии — о произведениях Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого, И.А.Бунина, А.И.Куприна, М.М.Пришвина, В.Я.Шишкова, Б.А.Пильняка.
Важно отметить полное отсутствие в русской литературе комплекса «цивилизованного превосходства» по отношению к азиатским народам, свойственного западной культуре и нашедшей отражение в европейской литературе XIX-ХХ века. Азиатская культура никогда не изображалась в русской литературе как некий сторонний объект, но всегда выступала как равноправный субъект. На материале ряда произведений В.В.Кожинов убедительно показал, что «атмосфера безусловного равенства и братства воплощена во всех творениях русской литературы, воссоздающих образы народов Азии — и в лермонтовском «Герое нашего времени», и в кавказских повестях Л.Н.Толстого (в «Хаджи-Мурате» даже как бы переходит границу равенства, выдвигая на первый план черты превосходства горцев над русскими), и в поразительном по силе, явно недооцененном, повествовании Н.Лескова «На краю света» (о Якутии)
[42]. Во всяком случае встречающиеся во многих произведениях русской литературы положительные образы азиатов, даже в тех случаях, когда перед нами герои, борющиеся за свою независимость, а также положительные образы тех выходцев из Азии, которые связали свою жизнь со служением Белому Царю — все это яркое свидетельство евразийского духа отечественной словесности, проявление ее многонационального всечеловеческого характера.
Подходы, намечаемые евразийской эстетикой позволяют рассмотреть вопрос о взаимодействии литературы и истории в плане соотношения влияний Востока и Запада на литературный процесс. Хотя в литературе выделить объективные критерии расцвета и упадка еще труднее, нежели в истории (где П.Савицкий сделал серьезную попытку), наверное было бы интересно понять, как влияли на словесность восточные и западные «уклоны» русской истории. Конечно, очевидно, что влияние в данном случае, даже если его удастся обнаружить, окажется гораздо сложнее и опосредованнее зримых исторических сдвигов, но все же важно уловить, насколько реально его воздействие и какое направление окажется наиболее перспективным для русского слова? Не менее интересна и проблема соотношения принципа «оседлости» («леса») и принципа «кочевничества» («степи») не только в истории (как это убедительно показали исследования Г.Вернадского), но и в литературе. Принципиальную возможность постановки данной проблемы и реальное присутствие двух борющихся принципов подтверждается не только двумя типами названий художественных произведений и основных образов (чеховская «Степь», блоковская «Степная кобылица» или «Русский лес» Л.Леонова, «Отец-лес» А.Кима), но и двумя национальными типами, нашедшими свое художественное воплощение. В самом деле тип «оседлого» человека и тип «кочевника» (не только во внешнем и прямом смысле, но и во внутреннем духовном плане) постоянно присутствует в русское литературе, нередко выражая противоположные нравственно-психологические качества и создавая живительную основу конфликта в произведении. Конечно, едва ли можно считать какой-либо из данных двух типов «лучше или хуже» другого в этическом и, тем более, в эстетическом смысле или делать далеко идущие выводы о его исторической перспективности или обреченности, хотя такие попытки делались представителями двух противоположных идеологий — западнической и почвенической. В художественной реальности, как и в отражаемой в ней действительности, все сложнее: каждый из двух рассмотренных типов имеет по меньшей мере два уровня — высший и низший. Например, художественно преломленный принцип «оседлости» может на высшем уровне быть представлен образом человека труда, укорененного в национальной традиции. Если речь идет о земном труде и привязанности к земной тверди, это крестьянин, положительный герой многих произведений русской классической литературы. Если же речь идет о духовном труде, связанном с внутренней опорой человека на твердь небесную, то тогда это православный христианин, носитель идеала «русской святости», к ярким художественным примерам которой можно отнести образ старца Зосимы или целую галерею лесковских героев. В точности также принцип «кочевничества» в своем высшем проявлении выражают типы «очарованных странников», иноков, искателей правды, т.е. всех духовно подвижных и стремящихся к совершенствованию людей (например, многие герои Льва Толстого или же Николая Лескова). В низшем проявлении — это образ человека, разорвавшего связь с национальной традицией и поддавшегося наиболее темным и разрушительным течениям исторического потока (Верховенский или Челкаш).
Если оторвать взор от литературы и обратиться к отечественной истории, то не окажется ли справедливым соображение, что среди прочих конфликтов, разрывавших тело и душу Империи, имел место конфликт между двумя типами национальной психологии — «кочевнической» (преимущественно революционной и «красной») и «оседлой» (в основном крестьянской и «белой»)? Конфликт этот, в мирное время разворачивавшийся на университетской кафедре или газетно-журнальной трибуне, был локализованным и ограничивался зоной «верхнего этажа» национальной культуры. «Низший этаж» культуры сохранял спасительную стабильность. В предреволюционный и революционный период борьба перешла на «низший этаж» и выплеснулась на улицу. Победили «красные», представители наиболее чуждого России направления интернациональной марксистской «кочевнической» психологии низшего типа. Подобная психология отрицала самоценное знание российской культуры и относилась к ней как к средству для достижения своих целей, связанных с экспериментом мировой революции. Однако необходимость прочного удержания власти и глубинная логика управления гигантским евразийским пространством требовала сменить курс. «Сменовеховцами» оказались не только эмигрантские философы, но и руководители советского государства. Победители, как это часто случалось в истории, были вынуждены во многом принять законы побежденной территорий, и потому интернациональный большевизм начал все больше принимать национальную окраску, ярким примером которой стал немыслимый для «Манифеста Коммунистической партии» лозунг «любви к социалистическому отечеству». Интернациональное «кочевничество» делало медленные шаги навстречу коренной «оседлости» и не заметило, как очутилось в ее объятиях. Финалом такого сближения стало рождение «командно-административной системы» и охранительной партийной идеологии, а также формирование нового психологического типа являющего собой апофеоз извращенной «оседлости» — «коммунистического Обломова».
И хотя причины воцарения застойной идеологии и психологии сложнее, чем это сегодня принято представлять, и связаны со многими неустранимыми факторами, в частности с неизбежной усталостью народа от полувековых экспериментов, все равно бунт против неподвижного догматизма был неотвратим и медленно зрел в недрах самой системы. Не исключено, что «бомбой замедленного действия», взорвавшей стану, оказалась именно идеология, сдерживающая естественную «смену вех» и психологически разложившая оба типа. И как можно исключить мысль, что сегодняшняя смута является следствием очередного витка борьбы между «кочевниками» новой формации и представителями «оседло-охранительной» психологии?! В известном смысле вся отечественная история предстает как чередование двух рассматриваемых тенденций, что блестяще показано в работах Г.Вернадского. Конечно, было бы упрощением сводить движущие силы российской истории к борьбе только этих двух факторов, однако, не учитывать их мощного влияния, по-видимому, невозможно. Очевидно также, что конфликт двух данных тенденций, выступающих в обновленной форме и несущих в себе принципиально иное содержание, нежели в начале века, не закончился и, по признанию обеих сторон, грозит завершиться национальной катастрофой. Революционная логика развития страны предполагает установку у борющихся сторон на полную и окончательную победу какого-то одного из принципов, эволюционная логика зовет к примирению, основанному на гармоническом балансе между двумя тенденциями. Речь не идет об их полном слиянии — опасной утопии, осуществление которой было бы невозможно без утраты национальной идентичности и привело бы к полной остановке развития.