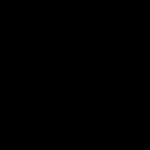Восточная ориентация русской культуры
По мнению Г.Вернадского, культура, возникающая в результате взаимодействия территорий и народа, на ней проживающего, всегда несет на себе печать почвы и в своих материальных проявлениях, и в своем тончайшем духовном измерении. (Уже одно это является ярким свидетельством о генетической родственной связи движения с идеями почвенничества). Своеобразие отечественного уклада жизни, культуры и государственности определяет, таким образом, евразийская «почва», само пространство «срединной Евразии», главными географическими зонами которого является лес и степь. Характеризуя влияние данных двух факторов на русскую историю, исследователь евразийства В.М.Хачатурян пишет: «В области экономической эта особенность географии отразилась в сочетании двух способов хозяйственной деятельности — скотоводства и земледелия. Лес и степь — это также два разных способа жизни (оседлый и кочевой) и, соответственно, разные типы мировосприятия и религиозности, две системы духовных ценностей. Таким образом, география Евразии предопределила соединение в ней двух культурных миров, не похожих друг на друга, нередко противоборствующих, но тем не менее сливающихся в единое целое» [26].
Русская история в евразийском изложении предстает ареной борьбы двух принципов «леса» и «степи», стремившихся сыграть главную партию в построении единой государственности и культуры. Борьба эта, временами принимавшая весьма драматические формы, иногда сменялась периодами гармонии, примирения двух противоположных, но внутренне тяготеющих друг к другу стихий. Евразийцы обозначили несколько этапов подобной борьбы. Так, начало собственно русской истории и выделение славяно-русской народности характеризуется попытками объединения степи и леса, предпринимаемыми нашими «лесными» и «степными» предками для получения выгодного обмена соответствующими природными продуктами. Затем складывающийся союз между «лесом» и «степью» с конца X и до середины ХIII веков подвергается испытанию: русский народ колеблется, ощущая тягу противоположных полюсов, и оказывается в пристепье (это соответствует тогдашним ожесточенным столкновениям Руси с печенегами и половцами, а также внутренним междоусобицам русских князей). Монгольское завоевание означает полную победу «степи» над «лесом», способствующее превращению Руси в сильное, внутренне единое государство. Следующий период (условно 1452-1696 годы) связан с торжеством «леса» над «степью» и соответствует русскому отвоеванию у татар Казани, Астрахани и Сибири, а также овладению устьем Дона и взятию Азова Петром I. И, наконец, пятый период (приблизительно с 1696 по 1917 год) можно определить как эпоху нового объединения «леса» и «степи» «в отношении хозяйственно-колонизационном» (Г.Вернадский) и расширения России почти до естественных пределов Евразии.
В оценке этой борьбы и анализе логики истории в евразийских трудах при всей их эмоциональной страстности и напряженности совершенно отсутствовал какой бы то ни было намек на сентиментальность в отношении к побежденным тенденциям ближайшего прошлого. Евразийская историософия пронизана преклонением перед силой победителей, особенно если эта сила способствовала превращению России в могучий организм с крепкой государственной волей и единым духом, в большей степени ориентированным на восток. Потому в определенной степени оправдывались и монголы, и даже русские большевики с их азиатской стихийной силой (но не космополитические интеллигенты-марксисты!). Напротив, деятельность Петра Великого, продолжившего пространственную экспансию страны в восточном направлении, оценивалась все-таки преимущественно негативно, ибо она закладывала в духовный фундамент Империи вредные западнические тенденции, которые рано или поздно ослабят государственный организм вплоть до повреждения территориальной целостности. Прагматичность идеологии евразийцев (хотя и одухотворенная признанием православия в качестве наивысшей ценности бытия), их стремление оправдать победившую доминанту эпохи, подкрепляемое апелляцией к гегелевскому тезису о «хитром духе истории» (выражение, почти буквально повторяющее слова Иосифа Волоцкого), и в особенности их практические попытки опереться на победителей и использовать их в своих целях (надежда встретить в советском руководстве прозревших от партийного дурмана младобольшевиков, способных воспринять «свежий ветер Азии») — все это вызывало острую критику со стороны православно ориентированных мыслителей, таких как И.Ильин и Г.Флоровский.
Евразийцы были склонны видеть необратимый характер логики истории, и высказывание «история не терпит сослагательного наклонения» вполне применимо к ним и в известной степени объясняет их нежелание производить над историей (в особенности над ее ближайшим периодом) какой-то отдельный поспешный суд, как бы стоящий под ней. Они не видели более точного и справедливого судьи, нежели исторический отбор, уничтожающий слабое и сохраняющий все жизнеспособное. Из этого, однако, нельзя делать вывод (как порой пытаются) о некоем историософском имморализме евразийцев. Признавая «красных» более жизнеспособным историческим образованием, и одновременно менее нравственным, а «белое» движение не столь жизнеспособным, но зато духовно несравненно более высоким, они утверждали, что сопротивление большевикам, даже в случае его полной практической безнадежности, было необходимо для этического оправдания «белых» (а шире всей Белой России) перед судом истории. В свою очередь, некоторое оправдание большевизма, производимое евразийцами, проистекало отнюдь не из преклонения перед идеологией большевизма (хотя, по их мнению, «белые» проиграли именно потому, что не имели столь мощной — несмотря на весь ее примитивизм — всеобъемлющей и хилиастически напряженной идеи построения царства справедливости на земле, как «красные»), а из их понимания большевизма как нового вида варварства, необходимого для осуществления «грязной работы» истории — разрушения старого мира и культуры (не менее обаятельной, нежели римская культура, уничтоженная древними варварами, расчистившими дорогу христианству) и утверждения культуры новой. Это разрушение представлялось предначертанным и заданным свыше (намек на это содержится, по мнению П.Савицкого, в Библейском откровении «о том, что, по закону сопряжения крайностей, принуждены прийти и крайние материалисты...»[27]). Евразийство, таким образом, никогда не было нигилистической апологией чистого разрушения, но скорее представляло собой политическую идеологию футуристического типа [28], видевшую свою задачу в построении будущей великой евразийской культуры. Именно поэтому П.Савицкий считал одной из главных идейных целей своего движения в «раскрытии заданностей» и «валоризации» русской революции (т.е. в оправдании и постижении ее глубинного онтологического и ценностного смысла). С этой течки зрения религиозный смысл временного отпадения народа от Бога и стихийного разрушения всего прежнего уклада жизни «до основания» состоит в испытаниях и опыте страдания, дающих возможность вернуться к основаниям веры и истины на новом, более высоком уровне.
Обозначим еще несколько перспективных евразийских созидательных идей, на наш взгляд достойных стать гранями возрождающейся «русской идеи».
Идея русского национально-культурного своеобразия
Евразийцы считали, что в трудном XX веке Россия еще более, нежели раньше, должна сосредоточиться на поисках своего национально-культурного задания. Если внешние черты российского своеобразия, проявляющиеся во взаимодействии с другими народами, осознаны национальными мыслителями и даже определены Ф.Достоевским как «всемирная отзывчивость» (правда, в последние два века все более отзывающиеся на звуки западных сирен), то внутреннее культурное задание России до конца не определено. Сущность своеобразия русской культуры евразийцы, в отличие от своих учителей-славянофилов, видели не в славянстве, но в единстве восточной и западной культуры, причем это единство представлено в России не как механическая сумма двух величин, но как река, органически вбирающая в себя два великих притока. Россия должна осознать себя наследницей, преемницей и хранительницей двух великих евразийских культур прошлого — культуры эллинской, сочетающей в себе элементы эллинского «Запада» и древнего «Востока», а также культуры византийской, вобравшей в себя влияния восточно-средиземноморского мира поздней античности и средневековья (П.Савицкий). (В своей критике современной западной культуры евразийцы иногда перегибали палку.) Идея национально-культурного своеобразия предполагает и особую концепцию культуры, отвергающую универсалистскую западноевропейскую теорию, при которой народы делятся на культурные и некультурные, причем, область культуры во многом смешивается с достижениями науки, техники и «внешней» цивилизованности. Культура обязательно должна включать в себя область религии, духовности и нравственности и осознавать их безусловное первенство в сравнении с материально-бытовыми культурными проявлениями. Лишь тогда унифицирующая доктрина универсального прогресса, как якобы единственно верного направления в развитии культуры, устанавливающая искусственные механические мерки «степени прогрессивности» самобытных национальных культур, отпадает как крайне поверхностная теория. Будущая культура России впитывает в себя лучшие достижения всех слоев, сословий и классов, но образцами и ориентирами в развитии культуры в большей степени должны считаться достижения высших слоев.