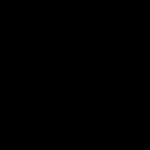Восточная ориентация русской культуры
Российские поиски особого пути, «третьей правды», к тому же замешанные на острой критике европейской идеи прогресса и критической оценке демократии, никогда не были поддержаны положительным отношением интеллигенции и прессы. Трудная судьба евразийства и тогда, в эмиграции, и сегодня, в сознании современных западников не является в этом плане исключением. В зарубежье, несмотря на привлекающую многих самостоятельную позицию евразийцев в оценке будущего России (за что их называли «славянофилами эпохи футуризма»), негативные оценки движения все же преобладали. Память о произошедшей революционной трагедии была столь остра, что критикам порой было просто невозможно преодолеть доминирующую эмигрантскую тенденцию — подвергать немедленному остракизму любой намек на неоднозначную роль русской революции или противоречивый смысл европейского парламентаризма. Сегодня противников евразийцев раздражает их антизападничество, и они с охотой используют старинный, сложенный вокруг движения миф, суть которого в том, чтобы представить «исход к Востоку» скороспелой реакцией интеллигентского сознания на революционные события и смуту беженства. Подобную крайнюю точку зрения высказывал в своей статье в «Экономическом сборнике» А.А.Кизеветтер, утверждавший, что евразийство «родилось из ощущений, навеянных 1) великой европейской войной и 2) водворением в России большевизма» [3]. Ему возражал в целом критически оценивший евразийство Н.А.Бердяев, который пытался оставаться в границах справедливости и здравого смысла: «Нравственные обвинения против евразийцев, что они «сменовеховцы», что они приспособляются к большевистской власти и чуть ли не являются агентами большевиков, представляется мне не только неверными, но и возмутительными, свидетельствующими лишь о том, насколько разным староэмигранским направлениям неприятно напоминание о банкротстве их идейной установки в отношении к революции и к тому, что происходит внутри России» [4].
Сама попытка представить евразийство как стремление философски обосновать азиатский лик России, якобы отразившийся в событиях 1917 года и последующем тоталитаризме, не подтверждается свидетельствами отечественной истории. Николай Рерих, целую жизнь отдавший философскому изучению и художественному освоению Азии, утверждал, что контакты Древней Руси с Востоком были гораздо глубже и разнообразнее, нежели это казалось западникам, и осуществлялись через Индию, Среднюю Азию, монголов, татар и других степных азиатских народов. Присоединение Казанского ханства, освоение Сибири, проникновение в Казахстан, на Дальний Восток, общение с калмыками, тувинцами, бурятами, кавказская эпопея — все эти процессы привели к тому, что к концу XIX — началу ХХ века Россия стала великой азиатской державой, в полной мере оправдавшей свой поистине провиденциальный выбор государственного герба. Общение это было неоднозначным, драматическим, в отдельные моменты даже трагическим для русской истории и, вместе с тем, в конечном итоге весьма плодотворным.
Разумеется, следы разнообразного взаимодействия с миром Азии не могли не отразиться в отечественной литературе от ее древнейших памятников и до произведений наших современников. Число примеров огромно. Упоминания об Индии и Востоке есть в «Повести временных лет», «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона, «Повести о Варлааме и Иоасафе», «Хождении игумена Даниила», «Голубиной книге», бессмертной книге Афанасия Никитина, в новгородских и псковских старообрядческих легендах. В XVIII веке «азиатской» темы касались М.В.Ломоносов, А.Н.Радищев, Н.И.Новиков, русский актер, путешественник и мыслитель Герасим Лебедев. В XIX веке (и в дальнейшем об этом речь будет идти отдельно) тема Азии звучит в поэзии В.А.Жуковского, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, А.А.Фета, А.Н.Майкова, С.Я.Надсона, в прозе А.А.Бестужева-Марлинского, П.И.Мельникова-Печерского, Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого. На значительную роль Азии в истории России указывала набиравшая силу отечественная ориенталистика, где евразийцы видели своего предшественника в трудах востоковеда В.В.Бартольда. О внутренней близости русской культуре восточных мифов, легенд, сюжетов, произведений фольклора свидетельствовали открытия таких столпов филологии, как А.Веселовский, Ф.Буслаев, А.Афанасьев. В русской музыке все чаще звучала тема половецких и персидских плясок. В то же время тема Востока в литературе превращались в идею Востока в отечественной историософии, где постоянно шли попытки осмыслить срединное положение России между Европой и Азией.
В последнем столетии духовное излучение Азии, пусть иногда выступающее в форме внешнего восточного колорита, присутствует в произведениях большинства представителей «серебряного века». Несмотря на отчетливо проявившуюся в государственной политике и настроениях общества западническую тенденцию, восточная ориентация русской мысли, кульминировавшая в евразийстве, за последние полтора века неуклонно возрастала [5]. Потому, хотя сами евразийцы видели своих предшественников в лице славянофилов, Н.Данилевского, К.Леонтьева и Ф.Достоевского (как мыслителя-публициста), очевидно, что они опирались на значительно более давнюю традицию русских исканий. Таким образом, становится понятным, что их движение — отнюдь не случайный зигзаг российской историософии, будто бы порожденный искрами революционного пожара и усиленный эмигрантской неприкаянностью, но закономерный итог многовекового развития русской мысли.
II
Справедливости ради нужно сказать, что собственно евразийство началось не в Софии и не в Берлине, а в России еще до революции. Этот «предъевразийский» период движения был связан с научными поисками «старшего» поколения евразийцев — Г.Вернадского, Л.Карсавина, Н.Трубецкого. «Младшее» поколение (хотя разница в годах здесь была минимальная — 5-10 лет) — П.Савицкий, П.Сувчинский, Г.Флоровский — присоединилось уже в эмиграции. Г.Вернадский, с юности тянущийся к изучению роли степной Азии в судьбе нашего отечества, уже в 1914 году писал статьи, где образно сравнивал историческое движение народов России к Востоку с движением против Солнца. Л.Карсавин до своей высылки из СССР в 1922 году опубликовал отдельную книгу, само название которой — «Восток, Запад и русская идея» — говорит о сути его тогдашних интересов. И хотя речь в ней идет в основном о богословско-религиозном аспекте проблемы Запад-Восток в ее отношении к национальной идее, а евразийские восточные приоритеты Л.Карсавина, находящегося тогда под сильным влиянием В.Соловьева, еще не выкристаллизовались в полной мере, антизападничество занимает в настроениях мыслителя существенную роль: «Не в европеизации смысл нашего исторического существования, и не европейский идеал преподносится нам, как наше будущее». Уже тогда, не будучи лично знакомым с другими участниками евразийского движения, известный русский медиевист, сетуя на то, что подлинной «истории Востока у нас нет», утверждает, что важнейшая цель русской культуры «настоятельно требует преодоления ограниченности западного эмпиризма и решительного отказа от суррогата всеединства, именуемых идеалом прогресса» [6]. В то же время одну из задач углубления православно-христианского мировоззрения России он связывает с тем, что христианство должно хотя бы «внешне включать в себя достижения восточной религиозной мысли, говоря точнее — найти эти достижения в себе» [7]. Серьезно размышлял о роли Востока в исторических судьбах и перспективах России и Н.Трубецкой, внимательно изучавший многие, в том числе восточные, языки, мифологию и фольклористику и оттачивающий свое будущее евразийское мировоззрение на заседаниях лингвистического кружка при Московском университете, где помимо обсуждения языковых проблем говорилось о кризисе западной духовности и «необходимости сближения европейских и азиатских тенденций мировой истории» [8]. Когда в Софии, ставшей одним из первых центров эмиграции, встретились и объединились «на общем мироощущении» (Н.Трубецкой) основные участники евразийства, этому объединению предшествовал серьезный путь личных исканий каждого. Революция, в которой молодые мыслители увидели закономерный итог 200-летней европеизации страны, и последующие тяготы беженства, в особенности пренебрежительное отношение вчерашних союзников в Галиполи, сыграли роль катализатора объединения, увидевшего ясные пути в «исходе к Востоку» [9].
В своем идейном развитии евразийство прошло несколько этапов. В начале двадцатых годов это было, по выражению С.Хоружего, не столько «единое учение, сколько набор мыслей, религиозных и историософских у Н.Трубецкого, географических у Савицкого» [10]. Широкие рамки евразийского мировоззрения, не предполагавшего жесткой унификации, позволяли каждому из участников достаточно свободно проявлять свою творческую индивидуальность. Однако затем, во второй половине двадцатых годов, евразийская идеология усложняется и вбирает в себя достаточно противоречивые тенденции. С одной стороны, ее важной составляющей и философским фундаментом становится высокое метафизическое учение об иерархии «симфонических личностей», к высшим звеньям которой относится «идея личного Бога» и Россия-Евразия, представляющая собой «соборность» наций. С другой стороны, движение приобретает все более политизированную окраску, что впрочем принималось далеко не всеми его участниками. Выражая естественную претензию любой серьезной теории увязать себя с практической жизнью, евразийцы попытались дать подробный анализ процессов, происходящих в современной им большевистской России. Разумеется, они не могли обойти тему событий 1917 года, к которым у них было сложное, неоднозначное отношение. Для евразийцев вообще было характерным разделение понятий революции как явления истории, большевизма как чисто национального плода революции и коммунистической идеи как разрушительной революционной идеологии, изобретенной на Западе. Евразийцы предпочитали говорить не о русском коммунизме, как это делал Н.Бердяев, но о русском большевизме.