Символика и наследие «каирского отшельника»
В рассуждениях Генона остается открытым вопрос о наличии тайной непрерывной инициатической цепи внутри восточной церкви. Конечно, такая цепь внутри церкви есть — это прежде всего русское старчество. Дар старчества каждый старец получал не от официальных церковных структур, а от другого старца, разумеется, при условии личного духовного подвига. В то же время, многие русские святые, передающие благодатную силу через институт послушания от сердца к сердцу, считались старцами. Причем обе линии святости — церковная и старческая, — при всем драматизме их взаимоотношений в реальной российской истории, не противоречили одна другой и дополняли друг друга. Можно с большой степенью условности выделить две основные инициатические линии или, точнее и строже говоря, линии благодатного преемства в русском православии:
1. Сергий Радонежский — Никон Радонежский — Андрей Рублев и Епифаний Премудрый — Серафим Саровский, (похороненный с иконой Сергия Радонежского) — Иоанн Кронштадский;
2. Нил Сорский (посвященный в тайны «умного делания» в Афонском монастыре) — Паисий Величковский — Оптинские старцы.
Необходимо сказать также об еще одной линии, связанной с умным деланием и представленной таким мощным духовным центром страны, как Валаамский монастырь. Судя по книге «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу», инициатическая цепь в русском православии, передающая тайные наставления по умной молитве и ее силу, одновременно и строго иерархична, и открыта, доступна для всех творцов этой молитвы, поскольку в нее входят также и миряне. Конечно, по всем признакам она отличается и от католических мистических орденов, и от других эзотерических обществ христианского толка на Западе. Можно видеть, как в самой глубине и сердцевине православной традиции действовала инициатическая организация, причем без всякого бунта и серьезных конфликтов, не выходя из лона церкви и в то же время не совпадая полностью с официальной церковными структурами. В католицизме подобная ситуация была бы немыслимой.
Кстати, феномен русских духовных стихов, выражающих народную сакральность, позволяет оспорить выдвигаемый Геноном тезис о вторичности фольклора, якобы представляющий собой смутный отзвук Первоначального Откровения, весьма далекий от оригинала. Если говорить, например, о Голубиной Книге, то она поражает своей близостью к ведическим знаниям и образам, как известно, относящимся к первоистокам индоевропейской сакральности. Наличие многочисленных списков и вариантов этих стихов выглядит не отступлением от точности передачи священной мудрости и символов, или их чисто внешним бессознательным воспроизведением, как это безусловно оценил бы Генон, настаивавший на абсолютно строгой и сознательной инициатической трансляции духа и буквы высших знаний, а наоборот, приближением к этим знаниям благодаря непрерывному и многообразному творчеству народного духа.
Можно не согласиться и со слишком резкой и уничтожающей оценкой Геноном личности и наследия такого крупнейшего исследователя символики, каковым являлся Карл Густав Юнг. Конечно, швейцарский мыслитель не был столь строгим последователем традиции, каким необходимо признать его оппонента и критика, однако его выдающаяся эрудиция, широта кругозора и, наконец, его достаточно плотные контакты с реальными носителями духовных традиций Востока позволили ему создать оригинальную теорию символов, особенно ценную своей психологической глубиной. В какой-то мере она удачно дополняет собой метафизическую символику Генона, который, как известно, весьма критически относился к возможностям психологии как науки и очень часто сопрягал со словом «психические» слово «останки». Между тем, Юнг убедительно показал врожденную психологическую предрасположенность человека к восприятию тех или иных символов (в том числе и считающихся священными) и раскрыл их укорененность в глубинах индивидуального и коллективного бессознательного. Многие чисто психологические аспекты символики, выражающиеся в непосредственном знании смысла определенных символов, без их предварительного изучения и даже без малейшего намека на инициацию раскрыты именно Юнгом и принадлежат к его высоким научным достижениям. Особенно интересны примеры детских ритуалов, имеющих сакральный смысл, не выводимый из условий жизни данных детей, ввиду отсутствия специального обучения и нулевого уровня инициатической подготовки. Подобные примеры остаются необъяснимыми, тем более, что Генон сложно относился к понятию реинкарнации. Вообще, признание духовности в качестве единственной и высшей реальности, отрицание психологического (душевного), то есть по сути дела личностного начала находится в противоречии с христианским персонализмом, составляющим стержень того христианского эзотеризма, о котором (в противовес теософскому эзотерическому христианству) говорит сам Генон. Налицо труднообъяснимое противоречие, говоря христианским языком, — соблазн уклона в монофизитскую ересь. «Каирский отшельник» безусловно прав, отказывая в сакральности тому типу сентиментальной душевности, который был характерен для европейского самосознания, однако русская сакральность по своей сути была не только духовной, но и душевной в самом высоком и очищенном смысле этого слова.
Генон и Россия
Итак, огромной духовный континент — Россия не вызвал серьезного исследовательского интереса у Генона, о чем можно судить не только по данной книге, но и по всему его наследию. Те немногие высказывания о России, ее истории и народе русском, которые встречаются в различных геноновских произведениях, к сожалению не позволяют говорить ни о наличии у Генона целостной концепции русской духовности, ни о глубине проникновения в предмет. В самом деле, насколько близко к истинному пониманию России и оригинально определение русских как «народа, имитирующего» черты и архетипы, присущие «истинно восточным» людям, сделанное Геноном в книге «Восток и Запад» и приведенное во втором издании альманаха «Милый Ангел» (1996)? О чем оно свидетельствует — о «всемирной отзывчивости» русских «имитаторов»? (но не об этом говорил автор знаменитой речи у памятника Пушкину), об их исторически подражательном поведении? (но если оно имело место, то почти всегда ориентировалось не на Восток, а на Запад), об их тяготении к восточной деспотии? (но тогда, чем это отличается от маркиза де Кюстина), или об их евразийской сущности? (но об этом подробно говорили жившие в Париже почти в одно время с Геноном евразийцы)? Кстати, ярчайший представитель русской консервативной мысли Константин Леонтьев высказал по этому поводу совершенно противоположную точку зрения, отказывая русской культуре и национальному характеру в яркой предметности и колорите, присущих, по его мнению, «восточному человеку». К сожалению, в данном случае мы, по-видимому, имеем дело с характерным для Запада аксиоматическим принижением роли России, отрицающим подлинность ее исторического и духовного бытия в сравнении с подлинным для Генона Востоком. Как бы ни был велик Рене Генон как мыслитель и как дух, едва ли следует принимать подобные вскользь сделанные им недостаточно аргументированные высказывания за истину в последней инстанции.
По-видимому, Генон не был знаком ни с русской святоотеческой литературой, уделившей понятию сердца огромное внимание, ни с учением о мистике сердца, разработанным в произведениях ряда русских философов, среди которых нужно упомянуть в первую очередь Достоевского (вспомним Кириллова с его теорией «идеи чувств»), Н. Лосского, В. Лосского, И. Ильина, Б. Вышеславцева. Кстати, примерно в одно время с Геноном на Западе некоторые мыслители (среди них нужно особо отметить О. Шпенглера и В. Шубарта с его книгой «Россия и душа Европы») проявляли серьезный интерес к русской духовной культуре, не говоря о жившем в прошлом веке и хорошо известном Генону Жозефе де Местре с его «Петербургскими вечерами». Русский подход к проблеме сердца снимает противоречия между чувствами и знаниями, рассматривая интуицию как проявление мистической силы сердца. Разумеется, речь идет о сердечной интуиции. Для Генона само понятие интуиции есть контр-инициатическая провокация, введенное в философию Бергсоном и как бы узаконивающее то смешение планов, которое характерно для современного мировоззрения. Оно по определению не имеет ничего общего ни с подлинной интеллектуальностью, ни с чистым гнозисом инициации, предполагающим абсолютную четкость и строгость при передаче знаний. Однако в завершающих главах мыслитель начинает говорить о таких свойствах сердца, которые можно осознать, лишь прибегая к понятию интуиции и смежным с нею свойствам. Перед нами еще одно гениальное противоречие, нисколько не умаляющее ценность геноновских идей и объяснимое, наверное, лишь тем, что само понятие сердца столь же антиномично, сколь и понятие истины (вспомним слова П. Флоренского: «Истина есть антиномия»).
При желании можно найти и другие пункты геноновского наследия, с которыми хочется поспорить, однако почти все они касаются частных сторон его творчества. В главном же исследования мыслителя, посвященные смыслу символов, и те выводы, к которым он приходит, вызывают ощущение огромной глубины и основательности. Вне сомнения, они получат отклик со стороны ищущей и думающей России, книга священной символики которой до сих пор не написана.
- << Назад
- Вперёд





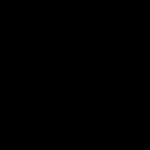
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи